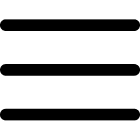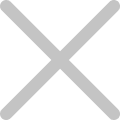ТВОРЧЕСТВО И ИСТИНА

– Кто такой писатель? Чем он занимается? Почему он пишет?
– В детстве мир был для меня светлой, яркой безграничностью. Когда я обнаружил, что у мира есть начало и конец, что существуют жизнь и смерть, счастье и несчастье, во мне этот яркий свет погас навсегда. Однако подсознательно я чувствовал, что это не может быть истиной, и никак не желал смириться с этой потерей. Всей силой младенческой души я пытался вернуть себе это изначальное чудесное чувство безграничья. Я думаю, именно в такую минуту во мне родился писатель, и эта моя “заданность” до сего дня не изменилась ни на йоту.
– Что такое литература?
– Литература – это постоянное напоминание человеку о безграничности или, если использовать более знакомое слово, об истине. Литература берет какой-либо предмет, какую-либо картину, образ бога, судьбу простого смертного – и протягивает человеку, говоря: это и есть безграничность; а человек может найти в этом свою истину.
На мой взгляд, литература не изображает, а образовывает, формирует жизнь. Это та самая нейтральная полоса, что одновременно и разделяет и объединяет разбегающиеся в разные стороны разветвления дороги – и тогда дорога превращается в путь, который, принимая любую форму, любой вид, неуклонно ведет к истине.
– Какова роль литературы и писателя в жизни человечества?
– Никакой “особой роли” в жизни человечества у писателя и литературы нет. Их роль – быть писателем, быть литературой. Оба они включены в “общий баланс” бытия, как и всё прочее.
– Ты, как писатель, в каких чувствуешь себя отношениях с остальным человечеством?
– К остальному человечеству отношусь так же, как к самому себе. Каждый человек сам являет собой всё человечество.
– Творчество – это удовольствие, мука, подвиг, средство самовыражения?.. Попытка спасти себя от забвения в беге времени?..
– Чисто по-человечески: нет в мире более тяжкого проклятья и более жестокой кары, чем быть армянским писателем, и в то же время нет большего счастья, чем творить на армянском языке.
Время само по себе – забвение. Вечно бодрствует лишь истина. И этого достаточно, чтобы человек чувствовал себя полностью счастливым.
– “В любом произведении искусства, большом или малом, всё, вплоть до мелочей, зависит от замысла”, – сказал Гёте. Начнем с этого: как рождается замысел?
– Я живу своей жизнью, что означает – жизнью мира. В известном смысле, у меня нет “официального”самосознания писателя. Я живу своей жизнью – как человек, который занят личным, будничным делом, однако каким-то внутренним чувством твердо знает, что однажды его непременно посетят. Кто посетит, неизвестно, но гость придет. В урочный час, услышав даже самый легкий стук в дверь, человек тут же открывает ее и только тогда узнаёт пришедшего. “Ага, это ты”, – говорит он и предлагает гостю сесть. И начинается беседа. Иногда бывает так, что вокруг царит полумрак и ты лишь спустя какое-то время догадываешься, кто сидит перед тобой. Всегда надо иметь в виду, что творчество – точно такое же существо, что и творец.
– Ну вот, скажем, замысел есть: ты хочешь написать определенное произведение… Как оно формируется в тебе, – в общих, размытых чертах или ясно и четко, с конкретными деталями? Как ты классифицируешь материал перед тем как воплотить его на бумаге, как выстраиваешь композицию будущего романа или стихотворения?
– Слово “замысел” означает “рождение мысли”, “рождение идеи”, и мне кажется, что главное в этом словосочетании именно рождение, возникновение, поскольку мысль не может предшествовать своему рождению, а рождение не может быть результатом мысли, как солнце не может зародиться из собственных лучей.
Образно говоря, рождение – это луч истины, который, точно молния, поражает ничего не подозревающего, живущего будничными заботами писателя, и в нем вспыхивает жажда творчества. А ударную силу молнии, направление, форму и время ее разряда невозможно ни предсказать, ни спланировать. Творчество, как и молния, создает само себя, и неведомы пути, которые ему предстоит преодолеть. Это и есть хорошо известная нам благодаря всему нашему жизненному опыту непостижимость бытия, то великое неведомое, без которого, кстати, не может существовать ни мир, ни жизнь, ни человек, ни бог. Нет истинного творчества – ни человеческого, ни божественного, – которое возникло бы согласно “предварительному плану”. Об этом свидетельствует изменчивая и противоречивая история создания всех “навечно данных господом богом” святых, религиозных книг и пройденный ими извилистый путь. То же относится и к области науки.
– Начало и конец. Самое главное – найти первые слова? Трудно тебе дается начало? Всю ночь напролет ходишь взад-вперед по кабинету, сжав ладонями виски и куря сигарету за сигаретой?.. Пока приходит первая строчка…
– Если откровенно, я никогда не верил в образ мечущегося в лихорадке вдохновения, почти невменяемого поэта (думаю, эти люди расчетливо и точно знают, что, как, почему и для кого они делают, – и это подтверждается жизнью). Я свои произведения по большей части писал “с лету”, “на ходу”, очень часто в таких обстоятельствах, которые в течение долгого времени исключали всякую возможность для занятий творчеством. Иначе я ничего бы не написал, как бы яростно ни вышагивал в своем кабинете. Считаю, что каждый писатель должен забыть о своем человеческом „я”, о „я“ своей жизни и проложить дорогу к творчеству. Ведь творчество само по себе – движение от “я” к сущности. С тем условием, конечно, что писатель как человек стремится посредством слова достичь самопреодоления.
– Три твоих романа, прочитанные мною, начинаются с безмятежных, обыденных описаний, затем действие стремительно развивается и к финалу с головокружительной скоростью приводит к символической картине. Твои герои становятся индивидуально-собирательными образами; таковы Армен, Арег, таковы персонажи твоего неопубликованного романа “День Бога”. Мир твоего романа становится реально-ирреальным, покрывается символической вуалью, произведение отрывается от земли, плавно поднимается в небо, унося с собой и читателя…
– Писатель, как и все существа этого мира, испытывает на себе бесчисленные перипетии жизни, ее взлеты и падения. При этом, независимо от воли и сознания писателя, в нем незаметно и неуловимо копятся тысячи маленьких замыслов и намерений. В этом состоянии у него все уже есть и в то же время еще ничего нет. В тот миг, когда писатель чувствует в себе совокупное присутствие этих замыслов и намерений, в сознании вспыхивает первое слово произведения, которое всегда и его последнее слово. И оно обобщает и начало, и середину, и конец. Это истинное семя художественного произведения, распознать которое возможно, как и в случае с деревом, лишь после того как семя даст побеги. Произведение завершается – и слово бесследно исчезает, трансформируясь в безграничное чувство счастливого познания. Писатель – и как автор, и как читатель, то есть просто человек – внезапно постигает истину. Это и есть ощущение самопреодоления или, если использовать твое определение, миг, когда ты “отрываешься от земли и плавно поднимаешься в небо”.
– Как все это создается? Вообще ты пишешь тяжело или перо едва поспевает за мыслью?
– Не могу судить о том, легко пишу или трудно. Когда как. Скажу проще: мне пишется…
А гоняться за мыслью нет никакой необходимости, поскольку от нее-то и исходит главная опасность. Мысль – величайшее испытание для писателя. Достичь берега может лишь тот, кто способен преодолеть соблазн мысли.
– В какой момент ты ставишь точку? Как ты чувствуешь, что пришло время отложить законченную рукопись?
– Когда безошибочно определяю целостное, то есть живое присутствие произведения. Мой гость завершает свой рассказ и воцаряется тишина, в которой слышно его спокойное и ровное дыхание. Это значит, что наша беседа успешно окончена. Мы встаем, обмениваемся сердечным рукопожатием и, поблагодарив друг друга, расходимся.
– Редактировать, править, добавлять, сокращать… Закончив писать, по-видимому, облегченно переводишь дух, нервная напряженность спадает, ты постепенно выходишь из магического состояния погруженности в творчество, живешь будничной, мирской жизнью, пока высыхают чернила. Потом ты шлифуешь текст… Так это или нет?.. Чехов считал, что искусство писать это искусство сокращать. Ты, к примеру, говорил мне, что в романе “Гора Солнца” сократил страниц двести, если не больше. Рука не дрогнула? Не было ли потом слез и сожалений? Как ты вообще работаешь над готовой рукописью?
– Проводив гостя дружеской улыбкой и тихонько затворив за ним дверь, писатель озабоченно задумывается. Начинает размышлять об этой встрече и, остро переживая какие-то детали, чувствует в душе тревогу. Радость первых минут постепенно уступает место разочарованию, затем – гнетущему ощущению обманутости. И вдруг его охватывает ужас: на миг ему представляется, что его уже нет, а жизнь и смерть, сидя рядышком, в тусклом свете читают написанное им, и на губах жизни почти неуловимо мелькает усмешка, а смерть широко улыбается… И писателем овладевает неистовое желание всё уничтожить. Вооружившись всеми инструментами мысли, опыта, знаний, инстинкта, он с яростью обманутого ревнивца набрасывается на оставленное гостем “наследие” с еще не высохшими на нем чернилами и начинает в полном смысле слова сводить счеты с записанной им же самим историей. Прочитав ее десятки и сотни раз, я довожу ее до абсурда, и произведение оказывается в абсолютном вакууме. Потом я устало отстраняюсь и равнодушно наблюдаю, как буква за буквой произведение возникает снова, как бы вырастая из ничего. Именно в это время непривычно ярко проступают все его неровности, шероховатости, излишества и упущения…
– “Слова – самые сильные наркотики, придуманные человечеством”, – остроумно заметил Киплинг. Работа со словом-наркотиком для тебя мучительна? Поиск единственного нужного слова, выбор… Грызешь ручку, комкаешь и выбрасываешь написанное в корзину, рвешь на себе волосы? Кстати, пишешь ручкой или работаешь в виртуальном пространстве – на компьютере?
– За исключением нескольких случаев, когда необходимое слово вдруг появлялось спустя пять или десять лет, я никогда не занимаюсь поиском слов. Армянский язык, как потоп, накрывает меня с головой. Иногда я даже боюсь захлебнуться в его бурных волнах. Проблема, я думаю, в выборе, хотя и это не представляет собой сложности, потому что, по сути, не автор выбирает слова, а само слово ищет наилучшую форму, в которой хочет предстать. Я молча наблюдаю за тем, как произведение, подобно женщине, меняет свои наряды, стремясь выглядеть привлекательно. Это длится всего несколько мгновений и доставляет мне истинное удовольствие. Конечно, иногда и произведение останавливается в растерянности, не зная, как быть, и тогда я предлагаю ему первое попавшееся платье – плохое и неудобное, способное лишь прикрыть наготу, – чтобы потом мне самому не ошибиться в поиске наилучшего. Вот почему я пишу компьютером – в прямом и переносном смысле…
– Вещь написана, умыта, причесана и наряжена в лучшие одежды, точно девица на выданье. Пора показать ее людям. Ты издал книгу, она устремилась к читателю. Какова твоя связь с книгой на этом этапе? Ты забываешь о ее существовании или следишь за нею, помогаешь ей или безразличен к ее дальнейшей судьбе? – пусть сама пробивает себе дорогу к читателю.
– Отправляя книгу в путь, я провожаю ее до дверей и возвращаюсь к своим делам. Иногда с особой теплотой и любовью вспоминаю ее – как родного человека, который далеко…
– Вдохновение или тяжкий труд – какова движущая сила твоего творчества? Ждешь, когда тебя охватит священный трепет, верный признак явления музы, чтобы приблизиться к письменному столу, или с восходом солнца не мешкая одеваешься, умываешься и садишься за работу?
– Ежедневно с восходом солнца я одеваюсь, умываюсь и … выскакиваю из дому, чтобы не опоздать на службу.
А создает произведение и движет ее вперед только сила истины. Иначе говоря, то внутреннее чувство, та убежденность, что создаваемое тобой истинно и безальтернативно. Это не зависит от обстоятельств и не предполагает непременного наличия бумаги и стола. Обязательно лишь присутствие автора. Всё прочее – каждодневные заботы, относящиеся к внутреннему хозяйству писателя.
– Ты сказал мне, что свой роман “Гора Солнца” переписал пять раз. На письменном столе Левона Хечояна я видел шесть-семь вариантов рукописи его “Книги двери Мгера”. Толстой, говорят, создал двадцать вариантов романа “Война и мир” и продолжал вносить изменения уже в процессе печати: так часто заставлял набирать новый текст и рассыпа’ть прежний набор, что хозяин типографии подал на гениального писателя в суд. Неужто невозможно сразу сформулировать и облечь в слова задуманное? Человек планирует дом, потом строит и заселяет его, а вовсе не возводит и рушит, возводит и рушит...
– В святой книге племени майя “Пополь Вух” бог дважды пытается создать человека и дважды у него это не получается. Человека – в его сегодняшнем виде – ему удалось сотворить лишь с третьего раза. Прямо или косвенно об этом говорится и в других священных книгах.
Творение в обязательном порядке повторяет своего творца. В глубинной сути, однако, они идентичны, иначе оба не могли бы существовать.
– Испытываешь ли ты страх перед чистым листом бумаги? Этой профессиональной болезнью писателей страдали и страдают многие. Маркес, например.
– В моем случае бумага “вступает в дело” только в самом конце. Если произведение не желает посетить меня, я никогда не неволю, не зову, уважаю его свободу, как оно – мою. С детских лет для меня стало привычным: я никогда не “пишу” стихи, я дожидаюсь, пока стихотворение, независимо от объема, полностью, до последнего звука, сложится во мне и лишь затем материализую его на бумаге. В случае прозы, прежде чем почувствовать настоятельную необходимость в бумаге, по меньшей мере несколько страниц, которые определяют, быть или не быть будущему произведению, я пишу мысленно, в голове. Когда гость непосредственно приступает к изложению своей истории, я тут же начинаю “запись”. А чисто по-человечески боюсь одного: чтобы вдруг какой-то посторонний шум не ворвался, не заглушил голос гостя и не помешал мне выслушать его.
– В процессе создания очередного произведения писатель живет в двух мирах, в двух временах, в двух пространствах, в двух реальностях. Один мир и одна реальность – то, что он пишет, другая реальность – общая для всех. Легко ли жить одновременно в двух мирах?
– В самом деле, в процессе творчества писатель живет в двух мирах, однако вопрос не в том, легко ему или нет, а в том, какой из этих двух миров реальней?…
Когда писатель пытается ответить на этот вопрос, он губит свое произведение. Когда он отвергает его, рождается ответ.
– Ты писал стихи, издал две замечательные книги – на армянском и русском языках. Потом ты перешел на прозу и создал свои прекрасные романы. Казалось, о стихах ты забыл окончательно: увлечение молодости, нахлынуло и прошло. Но вот ты говоришь, что снова пишешь стихи, что их набралось уже на целую книгу…
– Двенадцать лет я стихов не писал, ни единой строки. Но однажды, уже не знаю как и почему, возникла строчка и без конца кружила у меня в голове, точно незаметно залетевшая в комнату пчела. Ежедневно, ежечасно, в самых различных ситуациях, беседовал я с кем-то или молчал, спал или бодрствовал, эта непрошенная гостья сверлила мне голову своим монотонным жужжанием, а самое главное – совершенно некстати: “Скитаюсь я у гибельных дверей… Скитаюсь я у гибельных дверей… Скитаюсь я у гибельных дверей…” Это стало чем-то вроде болезни, что преследовала меня годами. Однажды весной (дело было ближе к вечеру) я вдруг обнаружил, что эта навязчивая строка за весь день ни разу меня не побеспокоила. ”Неужто что-то случилось?” – подумал я почти с тревогой, когда во мне вдруг сверкнуло и выплеснулось стихотворение “Рождение”.
В душе, в глубине, в ее тишине
Звездочка Бога все время растет,
Это растет, как ребенок, во мне, –
Как только родится, умру от пустот.
(Перевод Юнны Мориц)
Так пчела вылетела в открытое окно и скрылась, оставив у меня в душе после своих невидимых виражей тысячи сверкающих траекторий, которые потом стали проявляться в виде стихотворных строк. И родилась новая поэтическая книга.
– Как ты относишься к проблеме литературного влияния?.. Твои романы, к примеру, вызывают во мне ассоциации с произведениями Кнута Гамсуна (”Мистерии”, “Голод”). Очень много общего между ними: некая туманность, странствия героев, символистские методы и приемы, определенность-неопределенность, таинственные ситуации… Согласен ли ты, что подобные связи и сходства с Гамсуном прослеживаются в твоем творчестве?
– Одну вещь Гамсуна я прочел в юношестве, другую – в прошлом году, в твоем, кстати, отличном переводе. А сходства и общие черты могут быть настолько же, насколько могут быть похожи, скажем, выросший на тенистой поляне одного из лесов Норвегии цветок, которого не касался взгляд человека, и точно такой же цветок, раскрывшийся на макушке утеса в наших Гегамских горах, которым я любовался в детстве всякий раз, когда проходил мимо. В тех странах, где мне довелось побывать, травы и цветы почти одинаковы, и это меня всегда удивляло.
Что касается влияния, то до определенного возраста я считаю это вполне естественным – с тем условием, что оно не перерастет в ученичество до седых волос. Думаю, однако, что труднее всего избавиться от собственного влияния, поскольку это требует уже иных критериев восприятия жизни и литературы. В плане же непосредственно искусства у писателя возникают две главные проблемы: первая – становление собственного стиля, вторая – преодоление собственного стиля. Последнее удается лишь единицам.
– В твоих романах герои, события, среда всегда конкретно-обобщенные, реально-символические. Ты создаешь типы, словно взятые из эпоса, библейские образы. Зачастую таковы и картины природы. Формы обращения друг к другу, взаимоотношения людей, населяющих твои романы, кажутся былинно-сказочными. Особенно, на мой взгляд, в романе “День Бога”. В нем, если я правильно понял, ты намекаешь на то, что намерен создать, скажем так, исторический труд. Ты в самом деле пробовал написать новую священную книгу, новый эпос?
– Творческий путь писателя можно условно разделить на три этапа: на первом этапе он просто живет обычной жизнью, как всякий человек, на втором – осмысливает жизнь как писатель, на третьем два предыдущих этапа сплавляются и рождается мудрец.
На первом этапе писатель пробует превратить повседневную жизнь в литературу – как “автор” этой жизни. На втором этапе уже сама жизнь устанавливает над писателем свое авторство, а он пытается уклониться, превращая литературу в жизнь. На третьем этапе он стремится преодолеть, пересилить и жизнь, и литературу и достичь свободы. Всё, что он создает на этом этапе, естественным образом становится воплощением мудрости. Это и есть эпос.
По этой причине в эпосе, по существу, нет авторского “я”: личность писателя растворяется в произведении. Сказитель всегда слеп и безвестен. Имя тоже условно, как и всё в его сказании, – жизнь и смерть, люди и животные, природа и вселенная, время и пространство, добро и зло. Обязательно лишь одно – борьба. Борьба между истиной и ложью. Причем борющейся стороной является вовсе не истина, а ложь. У истины нет нужды бороться: ее единственная “задача” – быть.
Вот почему любое искреннее, неподдельное произведение устремлено к безграничности, потому и свято.
– Если я скажу, что лучшим из трех твоих романов считаю неопубликованный “День Бога”, как ты воспримешь это мое утверждение? В “Армене” мне хотелось бы видеть другой финал: чтобы главный герой не погиб, а продолжал свое непонятное блуждание в непонятной стране, как делал это на протяжении всего романа, носимый волнами жизни. В “Горе’ Солнца” у меня вызывает сомнение несоответствие размышлений главного героя его возрасту: мальчик иногда говорит как юноша, иногда как зрелый муж. А в “Дне Бога” ничто не вызывает во мне ни сомнений, ни возражений, эту вещь я принимаю безоговорочно, она удовлетворяет меня и дает право назвать ее крупным, значительным романом, истинно эпическим произведением. На мой взгляд, это одно из лучших творений армянской литературы.
– Поскольку “День Бога” еще не опубликован, не могу говорить здесь о нем, о его сути во всех подробностях. Скажу лишь одно: это попытка воспроизвести первичную память, прапамять бытия…
Когда я писал “Армена”, моя семья живо интересовалась коллизиями сюжета. Поставив последнюю точку, я как бы между прочим сообщил, что роман окончен. Дети взглянули на меня, и всё им стало понятно. Расплакавшись, они обрушили на мою голову гневные обвинения, словно именно я убил Армена… И вправду, в тот момент я чувствовал свою безмерную вину, но душа моя была неколебима, как могильный камень. Без этой непричастности творчество невозможно. Пройдет какое-то время, и все, в том числе и ты, дорогой Ованес, убедятся, что Армен не мог иметь иной судьбы…
Роман “Гора Солнца” – не воспоминания автора о своем детстве, а именно его, детства, жизнь. Это некий своеобразный мир, где всё слитно и неразделимо живет в восприятии ребенка, и вне этого мира ничего иного не существует. Можно сказать, что и сам ребенок воспринимает себя в этом единстве жизни. Во всей вселенной это исключительное, единичное положение познания, как говорится, привилегия богов. Когда в ребенке просыпается человек, ребенок начинает отличать себя от мира. Единое восприятие жизни дает трещину, расщепляется, и рождается знакомый мир: жизнь и смерть, любовь и ненависть, сон и реальность и так далее и тому подобное. “Гора Солнца” создана именно на этой разделительной черте (“День незаметно клонился к закату”).
По поводу некоторых “пограничных” эпизодов романа должен сказать, что нет иной естественной возможности воспроизвести тончайшие чувства, необъяснимые ощущения, неуловимые восприятия мальчика Арега, чем перевод их на понятный человеческий язык, если, конечно, мы сами как люди хотим полностью познать и прочувствовать жизнь детства…
– Твое творчество в целом я считаю одним из лучших проявлений нашей литературы, прошлой и современной. Ты согласен со мной – без ложной скромности?
– Думаю, что мое “да” или мое “нет” не имеют никакого значения…
2015г.
© Альберт Налбандян
© Ованес Айвазян
© Юнна Мориц
© Севак Арамазд