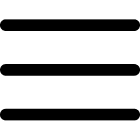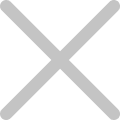СТЕПЬ
Повесть, 1988
Перевод с армянского Альберта Налбандяна
I
Сквозь неестественно пышно разросшийся крапивник, сквозь вязкий степной вечерний полумрак мы устало брели вверх вдоль берега реки– туда, где на небольшой возвышенности, среди похожих на холмики скоплений ила и мусорных куч, окружённых высокими зарослями камыша, притулился наш передвижной вагончик, который при всей своей мрачности и неопрятности был на всём обозримом до далёких горизонтов пространстве единственной точкой, имевшей для нас вполне понятный и определённый смысл – дом.
Впереди, энергично размахивая руками, решительно шагал мой односельчанин и к тому же сверстник и беспощадно критиковал дела, которыми мы занимались и которые шли неважно; сперва он ругал весь мир, потом переходил к нашей работе и к работодателю, потом утверждал, что если бы мы что-то сделали не так, как сделали, а совсем иначе, всё было бы хорошо, потом мало-помалу, слово за слово, начинал обвинять меня – “Вот ты…” – и как бы невзначай выпячивал собственную роль – “А вот я…” Он был пастухом и презирал строительство, которым сейчас был вынужден заниматься наравне со всеми, и в глубине души считал унизительным признаться самому себе, что он может уставать от работы, и потому старался держаться легко, бодро и не умолкал ни на минуту.
Поначалу я весь кипел от злости и, когда молчать становилось невмоготу, готовился дать достойный отпор: напомнить ему, как в моё отсутствие, когда я по делу отправился на песчаный карьер, эта приехавшая из города прыщавая девица, которая, по его словам, “учится на прокурора”, обвела его вокруг пальца: выдула оставленную на чёрный день нашу бутылку армянского коньяка, продала ему за сотню дешёвые блестящие часы с жестяным корпусом, а потом, между наигранным смехом, щипками, похвальбой, разговорами о вечной любви и минутными вспышками ревности, ухитрилась, как выяснилось позже, спереть у него старинный дедовский талисман – позолоченную табакерку с изображением змеи на крышке. Но каждый раз, когда я встречался с ним взглядом и видел в его потухших глазах всё ту же усталую безысходность вперемешку с тревогой и паническим страхом, мой пыл мгновенно угасал, я вспоминал, как по ночам, в тяжёлом сне, он ласково разговаривал и играл со своими детьми за тысячи километров от них, как прижимал к щеке грязную подушку, воображая, что это их маленькие головки, вскрикивал, смеялся, – и лишь обескураженно вздыхал, устыдившись своего порыва и с горечью думая о том, что его нельзя ни в чём винить, что виноват я сам, бесталанный и беспомощный, ведь это не в моём доме стены в одно мгновение растрескались на тысячи частей и не мои дети остались однажды под обломками…
И я нашёл выход: по дороге домой всегда замыкал шествие, пряча голову за спиной того, кто шёл третьим, и меня уже не слишком волновали эти трескучие пулемётные очереди моего сверстника, которые усилились после того как он непроизвольно, в качестве “парня бывалого и смекалистого” занял место во главе нашей порядком общипанной птичьей стайки.
– Если бы не твой язык, вороны бы тебе глаза выклевали… – съязвил я тем не менее и, не получив ответа, удивился, а когда он небрежно бросил идущему передо мной “Открой дверь”, поймал себя на том, что произнёс эти слова мысленно.
Тот, кому адресовался приказ моего сверстника, худой, среднего роста парень с вытянутым носом и большими глазами, по-солдатски послушно и неторопливо вытащил из-под камня спрятанный там ключ.
Этот паренёк был родом из какого-то карабахского села, я встретил его на станции затерянного посёлка в Татарии. Вышел из поезда выпить воды и, возвращаясь, увидел его в укромном уголке: в уже изрядно потёртой и грязной солдатской форме (что выдавало его долгое пребывание в этих местах), он сидел на своём рюкзаке, горстями бросал в рот семечки и жадно жевал, посматривая по сторонам. После расспросов выяснилось, что он, отслужив, не сумел вернуться домой, потому что два его друга, чуваш и русский, по его словам, при расставании украли у него деньги на обратную дорогу; а кроме того, сам он тоже не желал возвращаться с пустыми руками, чтобы не вынуждать больных родителей тратиться на покупку новой одежды для сына; он хочет ещё на несколько лет остаться здесь и поработать: авось ему повезет, и он чего-то добьётся… Я понял, что по какой-то причине ему не хочется возвращаться, и предложил присоединиться к нам.
Карабахец долго и безуспешно возился с замком, пока мой сверстник, недовольно брюзжа, не отодвинул его плечом и не открыл дверь. Когда мы вошли и включили свет, крысы в панике разбежались, чтобы забиться в щели. Мой сверстник швырнул в одну из них свой ботинок, но промахнулся, и это, кажется, его сильно задело.
– Чтобы я не смог… – Он, видимо, поленился завершить свою мысль и, безадресно выругавшись, стал стягивать с себя грязную, пропахшую терпким потом одежду и, уже голый, растянулся на кровати.
Несмотря на тщательно законопаченное единственное окно, в вагончик проникли мухи и крупные болотные комары. Они тут же накинулись на моего сверстника: садились на влажную коричневую спину, на шею, на лицо, но он, давно к этому привыкший, не сделал даже слабой попытки их отогнать. Мы, остальные, тоже разделись и легли на свои кровати, но мне показалось, что на сей раз это вышло у нас не так естественно, как обычно, а словно в подражание ему: будто мы во всём следуем примеру моего сверстника, и он это чувствовал, понимал, втайне уверенный, что так и должно быть. Эта мысль меня покоробила, и я, беспокойно ворочаясь, выместил досаду на мухах: сказал, что нет в мире более гнусной, более отвратительной твари…
– Браток, не будет мух – будет мошкара, – веско и глубокомысленно отозвался мой сверстник.
Я не ответил.
Потом в домике повисла душная, напряжённая, враждебная тишина. И уже в который раз это меня озадачило: отчего днём, в работе, мы веселы, благожелательны и прямодушны настолько, что даже говоря друг другу что-то обидное, ничуть не обижаемся, а вот вечером, вернувшись домой, становимся жёлчными, придирчивыми, пропитываемся непонятной неприязнью ко всему и готовы взорваться в любую минуту? И снова я мысленно стал винить себя, свою неискоренимую беспомощность, и снова мысленно убегал – от себя, от работы, от судьбы, куда глаза глядят; или же представлял, как ребята просыпаются на рассвете и, не найдя меня, выбегают наружу и застывают, поражённые ужасом: в тростниках на мутной поверхности реки я, утопленник, мерно покачиваюсь на воде, сквозь туман видна только часть моей спины… но это другая история, это история моего утонувшего брата, история другого…
Хлопнув себя по лбу, я вместе с каплями пота стёр и останки комара и, тяжко вздохнув, перевернулся на спину. На соседней койке лежал четвёртый – тот, кто хотел этой осенью жениться, и кому я пообещал, что он непременно женится. Я взглянул на него и ещё раз убедился, что он мне не нравится. Сельский парень, совсем не похожий на крестьянина: белая кожа, пухлое, лишённое мышц тело, мелкие глаза, тонкие, девчачьи руки; он не мигая уставился на закопчённый потолок и сосредоточенно копался в носу.
– Осторожней, – пошутил я невесело, – палец сломаешь…
Он посмотрел отсутствующим взглядом, едва ли восприняв, что ему говорят, потом молча сцепил руки на животе, и его сцепленные руки походили на груду мяса.
“Трепло, безмозглое трепло, – обругал я его мысленно. – Сейчас снова начнёт трепаться…”
Этот пухлый паренёк был откровенным лгуном и, ничуть не смущаясь, без конца рассказывал всевозможные дурацкие истории, частенько связанные с похищением девушек, но выстраивал он свои байки так, что умудрялся завершить их тем же счастливым финалом: как однажды к ним в село прибыл человек с “государственной внешностью” и из сотни присутствующих заметил и выделил именно его, доверив помыть свою служебную машину. Он считал, что этот случай удостоверяет его значимость, и упоминание о нём помогало ему в минуты душевной подавленности. Рот у него был немного скособочен: левая сторона верхней губы, немного вздёрнутая, создавала у меня впечатление, что именно этой частью рта он извергает на нас свои небылицы. С ним я был особенно любезен и осторожен, – так, словно высоко ценил его мнение обо мне, – и терпеливо выслушивал его занудливое враньё, согласно покачивая головой…
Тишина становилась уже невыносимой; какая-то муха упорно не сходила с плоскогорья моей груди, я чувствовал, как она то останавливается, принюхиваясь, то двигается дальше. Вспомнил, что нам ведь надо идти к старухе, хозяйке козла, колоть дрова, иначе мы останемся голодными! Это словно придало мне силы снова ощутить себя ответственным вожаком. Я поднял голову и с лёгкой иронией оглядел лежащих товарищей: вспомнит ли об этом хоть кто-то из них, но, видя их неподвижные обессиленные тела, неожиданно почувствовал прилив какого-то странного волнения и острой жалости: вот они лежат здесь, на чужбине, в замызганном вагоне, заброшенные, бездомные, точно сироты, и неизвестно, что с ними будет завтра… Я смотрел на их черноволосые головы, их смуглую кожу: они армяне, именно армяне – и горький комок подкатил к горлу…
И я снова увидел перед собой лицо нашего работодателя, лицо того человека, которого поставили над нами богом. Звали его Иваныч, но это имя ему не подходило, не имело к нему отношения. Он был только собой, определённо только собой, конкретный и безымянный. Узкие, коварно посверкивающие глаза этого человека постоянно прятались под полуприкрытыми веками, так что невозможно было поймать его взгляд; тонкие губы угрожающе сжаты, острый, агрессивно выступающий нос и острый, устрашающий подбородок; походка его была столь тяжела и хозяйски- вальяжна, точно он испытывает отвращение к земле, по которой вынужден ступать; но самым ужасным был ледяной ветер его молчания, когда он незаметно возникал и останавливался за нашими спинами – с каменным лицом, губы сжаты, руки за спиной, – он долго наблюдал за тем, как мы, покрытые испариной, мучительно тащим вверх по склону тяжеленные куски плитняка. Кто он был, какого роду-племени: татарин, русский или иных кровей – неизвестно, но каждое его слово, которое касалось или могло касаться нас, как бы бесстрастно или холодно оно ни звучало, всё равно вселяло веру: этот вряд ли нас обманет, вряд ли кинет; не он ли, когда дела пошли на лад, однажды неожиданно обронил, что всё-таки армяне хорошие строители, этого не отнимешь... Во время коротких перерывов, когда мы садились перекусить, или потом, когда курили, присев где попало, мы часто гадали, что может означать тот или иной его взгляд или жест, тайно надеясь, что он нами доволен. Однако чем ближе подходила к концу работа, тем чаще одолевали нас сомнения: он уже не появлялся, а его многочисленные подручные день ото дня становились всё мрачнее, неразговорчивее, иногда и враждебнее, и я, исходя из своего многолетнего печального опыта, уже догадывался, что конец, как всегда, будет плачевным, то есть обычным, и чувствовал, как меня переполняют горечь и отчаяние…
В тот день мы с карабахцем переносили кирпич. Перед последним рейсом, загружая носилки, я вдруг обнаружил, что слышу стук только своих кирпичей, но, боясь сбиться со счёта, не обратил на это внимания. Когда же носилки заполнились, я, как обычно, сказал “Поехали!”, но мой напарник не откликнулся. Только тогда я поднял голову и огляделся: достав из-под куста свою рубашку и бережно отряхивая её, он направлялся в сторону… Ого, оказывается, к нам пожаловал Иваныч, наш бог и царь, пожаловал и взглядом ищет место, чтобы присесть… Сначала я не уловил связи между ним и рубахой моего напарника, но уже в следующую минуту кровь ударила мне в голову. “Балбес! – крикнул я вслед карабахцу. – Немедленно вернись, ты же не лакей!..” Карабахец нерешительно остановился, не зная что делать, хотел было двинуться ко мне, но Иваныч не спускал с него глаз, и он всё-таки пошёл к нему со своей рубашкой и постелил её на том камне, который указал “хозяин” едва заметным кивком головы. Я отвернулся, чтобы не видеть, как Иваныч садится, приподняв кончиками пальцев брюки на коленях. Как подкошенный, рухнул я на кирпичи, и сердце у меня разрывалось от бессильного гнева; словно в лихорадке, я что-то бормотал, взмокший от пота, мне казалось, что душа моя источает жёлчь. Потом заложило уши, собственный голос доносился до меня откуда-то издалека, будто говорил не я, а кто-то другой. Мне казалось, я схожу с ума: не чувствую ни кирпичей под собой, ни грязи под ногами, ни неба над головой, точно растворяюсь в воздухе, точно меня уже нет… Потом я медленно повернулся в сторону Иваныча; тот внимательно, пристально смотрел на меня сквозь щёлки полузакрытых глаз, и мне стало совершенно ясно, что всё кончено. Он тяжело поднялся с места, сделал какие-то распоряжения мгновенно обступившим его подручным, сел в машину и уехал, а я в течение всего дня мысленно убеждал его, уговаривал, льстил, доказывал и снова льстил, но это было слабым утешением, и я понял, что виноват, во всём виноват…
Я резко вскочил с кровати. “Человек просто не должен жить…” – пробормотал, чувствуя, что выхожу из себя. Вязкая духота коснулась лица. Пошёл к выходу, стараясь не смотреть на ребят. В небольшом треснутом зеркальце над раковиной вдруг увидел себя: лицо мутное и расплывчатое, как тень, мелькнуло и исчезло и на миг показалось, что я уже там, по ту сторону…
II
Снаружи был неподвижный, душный сумрак. Впереди – непроницаемая чёрная масса камыша. Реки почти не видно. Я вспомнил, что вчера повесил сушиться на прибрежные кусты выстиранную одежду. Войдя в густыекамыши, спустился к реке по еле заметной тропинке. Внезапно слуха коснулся какой-то разговор, потом с противоположного берега послышался и тут же замер весёлый девичий смех. На мгновение я позавидовал тому, кто сейчас рядом с нею. Перепуганная кошка стремительно пересекла тропинку передо мной и спряталась в гуще камыша.
– Слышь, дружок! – прозвучал с берега хриплый, тягучий голос. – Подойди сюда…
Я ускорил шаг. На небольшой полянке у реки человек, наклонившись, делал какие-то резкие движения.
– Помоги! – приказал человек, не глядя на меня, и неожиданно стал раздражённо ругаться, дважды пнул ногой что-то большое и тёмное перед собой, потом разогнул спину, споткнулся, но удержался на ногах.
Когда я подошёл ближе, сердце у меня тревожно забилось: этот человек, кажется, сидел… на другом человеке! “Утонул…” – пронеслось в голове, дрожь прошла у меня по телу. Захотелось повернуть обратно, но я непроизвольно кинулся вперёд. Позвавший меня человек, ругаясь на чём свет стоит, продолжал свои непонятные резкие действия. Я подошёл – и остановился, опешив.
Кажется, это был тот тип, которого я однажды встретил в Татарии, в каком-то посёлке: мне надо было переночевать и я, не найдя ничего лучшего, устроился в уголке заброшенного дома, а он разбудил меня среди ночи. Узнав, что я армянин, посоветовал как можно скорее покинуть посёлок, потому что в их краях “армян не слишком жалуют”, а в этих развалинах каждую ночь собирается сомнительная публика: пьянчуги, “женщины безупречного поведения”, наркоманы, но сам он – человек с кристальной душой и считает, что армяне хорошие люди, однако, прежде чем я уйду, было бы совсем не плохо немного промочить горло. “Как ты считаешь?” – спросил он. Сонно покачиваясь, я смотрел на него, ничего не соображая, в голове был туман, казалось, я всё ещё сплю. Человек вдруг помрачнел и с недовольной миной пробормотал что-то угрожающее. “Учти, – вытянув указательный палец, произнёс он загадочно, – я мог тебя не предупредить, просто пожалел… Мог ведь, а?.. Мог ведь?..” – нервно повторял он, подойдя вплотную. Стряхнув с себя сон, я вывернул карманы, ссыпал ему в ладонь всю имевшуюся у меня мелочь и выпрыгнул из оконного проёма. Тёмными извилистыми проулками, избегая бродячих собак, я кое-как выбрался из посёлка и оказался в огромной настежь распахнутой степи. Лёг под одиноким деревом и забылся тяжёлым сном, а рано утром проснулся еле живой от острой режущей боли в спине.
– Ты что, русского языка не понимаешь? – зло прохрипел человек, пытаясь поднять и поставить на ноги приятеля, который был по пояс в грязи.
Я наклонился, подхватил лежавшего одной рукой за поясницу, другой за руку и начал с усилием тянуть его вверх, и тут в лицо мне ударил тошнотворный запах дешёвого вина.
– Ты в Татарии бывал? – спросил я, но он, по-видимому, не расслышал, потому что не переставал ругаться. Тут я заметил, что он тоже пьян - пожилой человек с приплюснутым носом и обильной растительностью на лице; а тот, кто лежал, был молодым – от силы лет двадцати-двадцати двух – парнем, и, насколько я сумел разглядеть в темноте, довольно приятной наружности. Тело его, безжизненное, как у покойника, было тяжёлым, зловонным, грязным, веки сомкнуты, рот полуоткрыт, и только хрип и неожиданные мышечные спазмы говорили о том, что человек жив. Точно оглушённый происходящим, очумевший, я действовал механически, не соображая: мир лишился рассудка, казалось, всю свою жизнь я только и занимаюсь этим бессмысленным делом: пытаюсь кого-то вытащить из грязи… В конце концов, нам с пожилым удалось приподнять упавшего настолько, что в тине остались только его ноги. Я тоже был перепачкан – и руки, и одежда, – отчего меня взяла досада, и я мысленно упрекал себя в том, что вечно попадаю в нелепые истории.
– Ты из тех армян, из вагончика? – словно только что меня заметив, вскользь спросил пожилой; он упёрся головой в спину молодого, – видимо, чтобы освободить руки и подхватить его под мышки, но потерял равновесие и оба они шмякнулись на землю, но на этот раз на траву; они увлекли бы с собой и меня, если бы я в последний момент не высвободил руку и не отскочил. Пожилой упал неудачно, он вскрикнул и повернулся на бок, пытаясь вытащить ногу из-под молодого; это сопровождалось яростной бранью. Наконец, ему удалось высвободиться, он вскочил и обрушил на лежавшего град пинков. При этом он что-то невнятно выкрикивал, кашлял и плевался. Мне показалось, что он дважды помянул некую Марту, а ещё какие-то верёвки и кухонный нож. Я оттащил его в сторону, обхватив сзади. В какой-то момент он на удивление чётко сказал, что я должен ему бутылку водки, потому что он спас, как он выразился, “судьбу армян”: грудью встал на их защиту, не позволив татарам Фаска прийти и разграбить наш вагончик.
– Нет, сказал я, вы не имеете права трогать армян!...
Я усадил его на траву, убеждая, что нет необходимости прямо сейчас, в эту минуту, идти бить татар Фаска, мы пойдём к ним в другой раз, в более подходящее время.
– Мы и Фоку ликвидируем, верно? –просиял он на миг. – Особенно Фоку…
– И Фоку тоже, – подтвердил я.
Он успокоился и умолк. Какое-то время, обхватив голову руками, нервно двигал коленями то вправо, то влево, потом снова попытался кинуться на лежавшего, который уже громко храпел, утонув головой в траве. Я успел перехватить его и оттащить. Тогда он зарыдал, в промежутке между всхлипами протяжно пропел какую-то строчку из песни, потом картинно стал бить себя в грудь и рассказывать какую-то путаную, маловразумительную историю, из которой я не без труда сумел понять, что лежащий рядом юноша – его “собственный сын”, который предал “собственного отца”, отняв у него Марту, принадлежащую одному ему “во всём мире”, только ему...
– Я вошёл, смотрю – они целуются…
Попутно он поделился какими-то скабрёзными подробностями, от которых меня чуть не стошнило.
– Тьфу, собачье отродье… – ругнулся я и, круто повернувшись, пошёл искать свою одежду, однако сорочку и нижнее бельё, видимо, в самом деле спёрли, так что я нашёл лишь один носок. Всё это время пожилой продолжал говорить, исступлённо, с пеной у рта, поминая какие-то старые и новые счёты, какие-то запчасти, каких-то председателей. Я взял свой носок и вернулся к тропинке. Когда я выходил из камышей, его голос вдруг смолк: скорее всего, он растянулся рядом с родным сыном и уже храпит…
III
Пропажа одежды меня по-настоящему огорчила. Особенно было жаль сорочки; она, правда, порядком выцвела и износилась, но мне нравилась. Мысль о том, что я больше никогда её не надену, доставила мне боль. “Да что же это такое, – негодовал я мысленно, – всё получается шиворот-навыворот…” Хотел обтереть руки носком, но передумал, сунул его в карман, вырвал клок травы и, вытирая ею руки, направился к нашему домику.
Свет, косо падавший из окна, выхватывал из мрака камни и комья подсохшей грязи с их бесформенными, вытянутыми тенями, и от сознания того, что вокруг – безлюдная тёмная степь, впереди – тёмная река, вверху – тёмное небо, а здесь – вот он! – свет, душа наполнилась таким блаженством, таким умилением, что мне захотелось, точно избежавшему опасности человеку, сделать что-то озорное, проказливое: я даже решил чем-нибудь напугать ребят, но тут услышал голос своего сверстника, произнесший моё имя. Я остановился, потом медленно опустился на порог и стал прислушиваться, взглядом устремившись в темноту, мыслью – к свету.
– Нет, братец, я о другом, – горячо говорил мой сверстник, обращаясь, по-видимому, только к карабахцу, потому что терпеть не мог четвёртого, пухлого, за то, что тот был таким же вруном. – Слишком он наивный. Увидит, к примеру, что двое дерутся, ну, шум, крик, так он обязательно прибежит, сунет свой нос, начнёт разнимать…– Речь, стало быть, шла обо мне, и я непроизвольно сжался. – Одним словом, неразумный он человек. – Кровать под ним скрипнула, видимо, он переменил позу. – Совершенно не думает о том, что ведь завтра эти люди скорее всего помирятся, будут жить душа в душу, а ты в итоге останешься ни с чем…– Чиркнула спичка, он коротко кашлянул, видно, закурил. – Или же – поди знай! – обернутся да воткнут тебе нож в спину, ты ведь знать не знаешь, что это за фрукты и чего они не поделили… Прав я или нет?
Он, конечно, ни капельки не сомневался, что прав, и в подтверждении не нуждался. Немного помолчав, он вдруг насмешливо хмыкнул: пухлый со своей кровати бросил какую-то реплику, я уловил только слово “совесть” или “по совести”, но мой сверстник игнорировал его возражение, хлопнул себя, судя по звуку, ладонью по руке и сказал:
– Бывает, человек мелет чепуху, сам не понимает, что говорит. На таких не стоит обращать внимания. Пусть болтают сколько влезет! Когда-нибудь влипнут, как муха в мёд, да получат по морде…
Пухлый издевательски прищелкнул языком, кувыркнулся на кровати и, изображая испуг, крикнул:
–А-ра-о!..
– Когда-то у нас была собака, тоже любила кувыркаться, а вот кончила плохо: сдохла от голода…– Голос моего сверстника звучал саркастически- непререкаемо.
Я улыбнулся: вот-вот начнётся представление. Мой сверстник обычно не упускал случая покуражиться над пухлым, и это стало вроде как своего рода закономерностью, нормой, а пухлый избрал против него удобную и безопасную форму защиты: всё обращал в шутку или же необидно подтрунивал над ним, а иногда нарочито внимательно выслушивал его, но в конце, как бы перечёркивая все его разглагольствования, заговаривал о чём-нибудь другом, не имеющим никакого касательства к затронутой теме. Но на этот раз он не ответил: тон моего сверстника был серьёзным и угрожающим; в этот миг я представил обиженно-растерянное выражение лица пухлого, и мне стало жаль его.
– А что дела у нас сегодня хуже некуда, – опять же его вина, – распаляясь, продолжал мой сверстник. – Что ему ни скажи – развесит уши и поверит…– Тут он, видно, передразнил меня и рассмеялся. – У них в роду все такие. Я всегда знал, что с ним каши не сваришь, да деваться было некуда: дом у нас старый, дедовский, трещины везде – в четыре моих пальца. Подумал: была не была, поеду с ним-, всё-таки попытка не пытка, может, заработаю немного денег, от стада ведь толку мало… - Мой сверстник выразительно кашлянул. – Эх-хе-хе, вон куда меня занесло. – Он вздохнул. – Год назад в это время я сидел на вершине Бердасара*, сидел и посвистывал в своё удовольствие. – Снова чиркнула спичка. – Вот скажи, с чего это он сегодня разорался на тебя, братец? – обращаясь к карабахцу, осторожно повернул он разговор в нужную сторону. – Думаешь, Иваныч ничего не понял? Прекрасно всё понял! Нет, чтобы подмазаться к шефу, так он сам себя шефом воображает… Ну и воображай! – внезапно вспылил он, заочно обращаясь ко мне. – Посмотрим, что ты потом запоёшь, как ты выкручиваться будешь. – Он злобно фыркнул. – Вот что он тебе, к примеру, ответит?..
Мой сверстник откровенно задабривал карабахца, но тот молчал – не отрицал и не соглашался. По своему обыкновению, карабахец, наверное, даже не слушал его: он всегда думал о чём-то своём, неведомом. Он просто слегка шевельнулся на кровати, но не произнёс ни слова.
– А я бы не так поступил, – сказал мой сверстник. – В прошлом году… ты, наверное, знаешь, думаю, в ваших краях тоже так: из города всегда денежные люди приезжают на автомобилях, красивых-красивых, смотришь – рука человека не касалась, картинки да и только! – мечтательно протянул он,– девочек привозят в наши горы, в ущелье, на лоне природы получают удовольствие, утоляют свою жажду, рвут цветы и уезжают. Однажды сидим мы с Хло Гево на склоне Бердасара, стадо несётся себе тихо-мирно, а мы посвистываем поочерёдно. Вдруг видим: с другой стороны, медленно так, авто подъезжает и останавливается в тени, а из него выходит полный такой седоволосый бугай, а из другой двери – молоденькая тёлка. Красотка – душа не нарадуется!..
– Да как может тёлка влезть в автомобиль? – насмешливо подал голос пухлый со своей кровати. – Ври да знай меру!
– А ты сиди в своих яслях и не высовывайся, в тебя даже камень бросить жалко…
– Был бы камень – бросил бы тебе, чтобы ты грыз его как проголодаешься…
– Ладно, пусть это будет моим долгом: в будущем году, как придёт весна, погоню тебя в горы вместе со стадом, чтобы ты убедился, своими косыми глазами всё увидел... Да, так вот значит, Хло мне говорит: пойдём проучим этого типа, смотри, одной ногой в могиле стоит, а какие вещи вытворяет! А я усмехнулся и вот так, с усмешкой, – мой сверстник показал, как он усмехнулся, – говорю: не будь дураком, мы пойдём, но сделаем другое. И мы пошли в их сторону, а Гево всё за рукав меня тянет, говорит: “Стыдно, давай лучше уйдём”. А я, братец, подошёл к ним – и в точности как в кино часто показывают – говорю: “Привет, шеф, гуляем, значит, на лоне природы?..” Увидел нас этот человек, опешил, будто ему на голову ведро холодной воды вылили. Я ему: “Не бойтесь, шеф, я вас хорошо понимаю”. Видно было, что он трус, у него по-моему, язык отнялся от страха, а я дубинку в руке покручиваю. Потом он сказал, что они археологи, ищут человеческие кости. Я говорю: “Хорошо, шеф, а эта красавица – ваша родная дочь?” Он покраснел, побледнел, а я: “Мы шутим, шеф, мы, хотя и со скотиной имеем дело, но и в удовольствиях жизни немного разбираемся, не такие уж мы неотёсанные”. Этот человек обрадовался, говорит: “Вижу, вы ребята неплохие, с вами будет приятно за столом посидеть. Честно говоря, я не археолог, а поэт, вы, наверное, слышали: Костан Варданян”. Я говорю: “Это хорошо, что вы поэт, шеф, но здесь на каждом камне, за каждым кустом есть тысяча глаз; вот совсем недавно один мужичок, так же, как и вы, привёз сюда красивую птичку, потом увёз и… остался в проигрыше”. Этот человек тряхнул головой – точь в точь как корова – и спрашивает: “Как это понять: остался в проигрыше?” Я в ответ: “Он прогорел, шеф, один из этих тысяч глаз его и спалил”. Человек помешкал, промычал что-то и сунул голову в машину. Пользуясь случаем, я вдоволь насмотрелся на эту красотку и даже перемигнулся не раз, – с гордостью сказал мой сверстник. – В общем, браток, этот человек вытащил из машины две новенькие четырёхцветные авторучки и две зажигалки и дал мне, а я сказал: “Идёт, шеф, я вас понял. Желаю приятно провести время. Пошли, Хло…”
Мой сверстник выжидательно умолк, видимо, проверяя, какое впечатление произвела его история, но вряд ли остался доволен, потому что никто не откликнулся.
– К чему я всё это говорю? – немного смешавшись, произнёс он. – Человек должен быть понятливым… Когда я сказал ему “прогорел”, он сразу сообразил, что мы… не против… получить… зажигалку…– кое-как докончил он фразу. – А ручки я дал сыну: пусть малюет.
– Ой! – хлопнул в ладоши пухлый, – ой-ой! В жизни не слышал такой брехни! Я ему – “прогорел”, а он мне – зажигалку… ой!..
– Что ты дёргаешься, как баба вздорная! – вышел из себя мой сверстник. – Или зачесалось где? – съязвил он.
– А ещё критикуешь того человека, – посерьёзнел пухлый. – Что смог, до чего дотянулись его руки, то он и сделал.
– А я тебе истину говорю, дурак! – продолжал бушевать мой сверстник. – Надо, чтобы руки до всего дотягивались! А то, что под рукой, – это все могут сделать.
– Стал бы шефом и сделал бы, – возразил пухлый. – Вообрази хотя бы на минутку, что ты шеф, – в его голосе прозвучали едва скрываемая издёвка и плутоватая хитринка, – ты что, пойдёшь подмазываться?.. Это во-первых. А во-вторых, сам ты дурак…
Как ни удивительно, мой сверстник не нашёлся с ответом. Он не ответил даже спустя время, которого, по мне, было достаточно, чтобы ответить. Он сделал несколько попыток, но у него не получилось; казалось, ему не хватает дыхания и он лишь прогнусавил что-то. И тут я понял, что он просто не в состоянии скрыть улыбку радости, которая и мешала ему говорить. Наконец, раздался его весёлый, безудержный смех: это была ничем не омрачённая радость человека, на короткий миг почувствовавшего себя счастливым, и я тут же решил: отныне он будет нашим “шефом”. Молчал и пухлый, чья прямота явилась для меня откровением, и я проникся к нему чувством благодарности за самоотверженность, с которой он меня защищал. На душе стало покойно, ибо дело, как мне показалось, прояснилось до конца: сомнительное стало несомненным, то, что было покрыто мраком, залилось ярким светом. Я ощутил себя свободным от той тяжести, которая давила на меня, пригибала к земле всё это время.
– Кончено, – шепнул я себе. – И с этим тоже кончено.
Но едва замер в ушах мой тихий голос, как сознание пронзил непоправимый смысл этих слов и меня в ту же секунду охватил ужас. “Как это так? – подумал я, кипя от возмущения. – Месяцами скитаться по этим треклятым степям, страдая от голода и жажды, гнуть спину перед каждым встречным ради того, чтобы найти какое-то дело, и вот теперь, после тяжких трудов, взять и передать его в чужие ненадёжные руки?”
– Ни в коем случае! – прошипел я зло; в глазах у меня потемнело от боли и ярости, когда я вспомнил и заново пережил случай, что произошёл со мной в конторе затерянного в глухомани села. Разъярённый староста, багровый от негодования, с руганью набросился на поразительно спокойно, даже беззаботно стоявшего перед ним человека, довольно странно одетого, в грязи с ног до головы, в шапке, натянутой на глаза. Заметив меня, староста окончательно потерял контроль над собой и, топоча ногами, просто выкинул меня из комнаты. Я просил, настаивал, чтобы он выслушал меня хотя бы в течение минуты. В ответ потерявший голову староста сгрёб со стола пепельницу и изо всех сил швырнул её в меня. Я едва успел увернуться. Выскочив из комнаты вслед за мной, он обрушился на управляющую делами с криком: “Тысячу раз я тебя предупреждал, чтобы ты не впускала ко мне этих грязных черномордых!”
И сейчас, вспомнив это, я испытал те же чувства: сжал зубы, пытаясь сдержать вскипающую в груди ярость и ненависть к своему сверстнику. Я встал, собираясь войти и всё поставить на свои места, но тут же снова опустился на крыльцо, услышав сквозь закрытую дверь тихий, неторопливый, словно поднимающийся из тёмных глубин голос карабахца:
– Вы тут разговоры ведёте, веселитесь, а я… Если мне сейчас в сердце нож всадить – капли крови не прольётся… Я с ума схожу… покончу с собой… я не выдержу…
– Ты о чём толкуешь? –видимо, приподнявшись и сев на кровать, обеспокоенно и недоуменно спросил пухлый. – Может, стихи декламируешь? – попытался пошутить он, чтобы разрядить обстановку, но умолк, потому что карабахец его словно и не услышал.
– Говорил: мама моя умом тронулась… Вай, мама джан… – Голос карабахца дрогнул: – Говорил: обед готовит и ставит перед фотографией Арама, говорит: кушай, сыночек, ты ведь сегодня не ел ничего… - Сдавленные звуки вырвались у него из горла, и я понял, что он плачет. – Не надо было тебе смотреть… надо было зажмурить глаза и пройти мимо…
– Кто это Арам, твой брат? – осторожно и немного виновато спросил пухлый. – Но ты же говорил, что у тебя нет брата? – спросил не без любопытства.
– Он уже служил, когда меня тоже взяли в армию… Ах, Ашхен джан… ах, мама джан…- Он что-то произнёс на своём карабахском диалекте, чего я не понял, но уже говорил точно в бреду: – Нет, я домой не вернусь… я убью себя…
– Послушай, ты что, совсем спятил? – взорвался мой сверстник. – Ты же человек, так и говори понятно, по-человечески… Ну-ка повернись в мою сторону, – он, по-видимому, протянул руку со своей кровати и стал теребить карабахца. – Вместо того, чтобы со мной говорить, ты лёг лицом к этому дураку. Что он понимает? – Моему сверстнику ужасно не нравилось, что карабахец обращается не к нему, а к пухлому.
– Пусти… не трогай, - сказал карабахец и, видимо придя в себя, неожиданно умолк.
А потом он начал говорить – сперва дрожащим, ломающимся голосом, но по ходу рассказа всю более чётко и внятно. Выяснилось, что в первый же день нашего прихода сюда, когда Иваныч послал нас на вокзал разгружать вагоны с кирпичом, карабахец зашёл в магазин купить сигарет и неожиданно встретил там своего односельчанина, который тоже проходил воинскую службу в этих местах. Поражённый случайной встречей односельчанин, узнав, что карабахец пока не намерен ехать домой, решил рассказать ему, какое несчастье постигло его семью: брат Арам, благополучно завершив службу и вернувшись, стал работать пастухом. Как-то вечером, ведя стадо с пастбища домой, он заметил с лесного склона, что на погосте, чуть в стороне от села, какие-то люди копошатся в той части кладбища, где похоронена его рано умершая сестра Ашхен. Сильно встревоженный, он помчался туда и увидел, что эти люди – турки из соседнего села, а могила – в самом деле могила сестры, один из турок стоял на коленях…
Тут карабахец снова заплакал в голос и не мог заставить себя выговорить, что делали турки, язык ему не повиновался, лишь произнёс сквозь рыдание “фото Ашхен” – и я содрогнулся от ужаса.
Воцарилось тяжкое молчание. Не было ни мыслей, ничего. Я вдруг заметил, что лихорадочно чешу локоть. Глубоко во мне медленно росло расплывчато-неопределённое чувство радости оттого, что я не в комнате, что я не вижу лица карабахца. Не знаю почему, мне казалось, что если в эту минуту я его увижу, произойдёт нечто жуткое, невыносимое, невообразимое и все мы перестанем существовать. И неожиданно я проникся к карабахцу враждебностью, начал осыпать его упрёками за то, что он есть, что он здесь; мозг мне обожгла мысль, за которую я немедленно ухватился, чувствуя что падаю, неуклонно падаю всё ниже. “А может быть, – размышлял я с каким-то тупым, болезненным злорадством, – может быть, он именно сейчас рассказал нам обо всём этом, чтобы вырваться отсюда, удрать. Он, скорее всего, жалеет, что связался с нами… И наверняка ненавидит меня…” Вместе с тем я понимал, что эти мои суждения несправедливы, но чем дальше, тем больше нравилось мне его обвинять, и я непроизвольно увязал в присущих ему мелких недостатках и в тех просчётах, которые он допустил. Память увлечённо ковырялась в той жизни, которую мы провели здесь вместе, придавая самым незначительным деталям большое, почти роковое значение. Я занимался этим безрадостным делом, когда раздался голос пухлого, заставивший меня очнуться, и я испытал ощущение выбравшегося из трясины человека.
– А дальше?.. – мягко и сочувственно спросил пухлый. – Что было дальше?..
– Куда ещё дальше? – перебил его мой сверстник. – Дальше некуда! – взъярился он. – Разве не ясно, что они камнем размозжили брату голову?.. – Он говорил сухо и жёстко, тоном обвинителя, словно во всём видел проступки пухлого. – Минутку! – по-видимому, обратившись к карабахцу, о чём-то вспомнил мой сверстник. – А почему ты скрывал от меня эту историю? – Это прозвучало осторожно-подозрительно. – Сказал бы вовремя – что-нибудь придумали бы, скинулись бы, дали бы тебе денег, отправили…
– А кто бы тогда купил себе часы? – не упустил случая кольнуть его пухлый. – Та юная прокурорша…
– Так почему же ты мне ничего не сказал? – повторил вопрос мой сверстник холодно и невозмутимо.
– Боялся… – с трудом выдавил из себя карабахец. – Боялся…
– Чего ты боялся? – с подчёркнутой снисходительностью спросил мой сверстник. – Разве за всё это время кто-нибудь сказал тебе в моём присутствии хоть одно обидное слово? – Он говорил с глубокомысленностью столетнего старца, и мне послышались в его тоне лёгкая насмешка и пренебрежение по отношению то ли к себе самому, то ли к карабахцу.
– Как я мог об этом сказать? Я бы с ума сошёл, если бы кто-то узнал… – чуть слышно ответил карабахец. – Получается так, что Арама… я убил…– сказал он с глубокой, неизбывной печалью. – Я жив, а его нет… значит, я виноват… Как мне теперь смотреть в глаза отцу и матери?..
Голос его задрожал, и он снова быстро-быстро заговорил на диалекте. Несмотря на все усилия уловить хоть какую-то мысль, я почти ничего не понял. Он вспоминал – торопливо, бессвязно, словно в бреду – обрывочные истории о пропавших коровах, о башмаках брата и снова о коровах, потом появились какие-то военные, которые то ли избили его, то ли он их избил, потом он напустился на родителей, упрекая их, в чём-то обвиняя, время от времени с особой нежностью упоминая брата Арама, потом стал укорять себя, потом в его голосе появились хриплые нотки, он закашлялся, ненадолго умолк, после чего стал что-то шептать, постанывая и ропща.
Я внутренне сжался, во мне зашевелилось мутное чувство, ещё не ставшее мыслью. Я поймал себя на том, что без конца повторяю: “Говорим на одном языке и не понимаем друг друга, живём в одном доме и не знакомы друг с другом…” И неожиданно, словно с удовольствием, словно намеренно детализируя, живо представил, как Арам сражается с осквернившими могилу сестры турками и как потом эти турки его убивают… От всего этого я почувствовал облегчение и пытался вспомнить, говорил ли карабахец собственно об убийстве или нет? Это усилие вызвало в памяти тот выражавший растерянность и отчаяние взгляд карабахца, когда он стоял с рубашкой в руке, не зная, идти ли ему к Иванычу или нет; в тот миг в его позе, во всём его облике была глубокаяозадаченность, и сейчас передо мной возник этот взгляд, отдельно от глаз и от лица, словно островок в море недоумения, и я догадался, что тембр его голоса, когда он почти бредил, сумбурно пересказывая какие-то истории, тоже выдавал недоумение. Неожиданное осознание этого схожести оказало на меня решающее воздействие, словно прояснило нечто очень важное, фатальное, но я не успел понять, что это такое, потому что снова услышал до неузнаваемости искажённый нотками озабоченности голос своего сверстника.
– Знаешь, что ты сделаешь?.. – медленно, раздельно, с суровой невозмутимостью судьи, оглашающего не подлежащий обжалованию приговор, сказал мой сверстник. – Знаешь, что ты сделаешь? Значит, поедешь домой, может, даже завтра, поедешь домой, всё досконально выяснишь, потом найдёшь тех турок и по отдельности их прикончишь…
– Прикончит и всё?.. – возмутился пухлый. – Что ты голову морочишь человеку! Его схватят, бросят в тюрьму и до конца жизни будут гноить в четырёх стенах… Какой же от этого прок? А его родители? – Тревога и негодование звучали в голосе пухлого; его, по всей вероятности, ужасала сама мысль об убийстве, иначе бы он не повторял постоянно: “Надо же придумать такое… Надо же…”
– Напрасно ты боишься… не бойся, – игнорируя вмешательство пухлого, снова заговорил мой сверстник с такой грустью, какой от него нельзя было ожидать. – Вот ты говоришь, что это не для тебя, что ты не хочешь причинять зла…– Карабахец ничего подобного не говорил. – Неверно мыслишь… так нельзя…– Мой сверстник словно беседовал сам с собой; я понял, что это одна из редчайших минут откровения, и обратился в слух. – Вот, к примеру, мой отец с детства копался в грязи и навозе, а в конце упал в силосорезку и его… раскромсало… Шесть обездоленных сирот оставил и ушёл… Эх, жизнь!.. Пришли люди, у которых власть, представь себе, и так и сяк крутили-вертели, чтобы пенсии не дать, говорили: пьяный был. А этот бедный человек, заметь, братец, капли в рот не брал, печень у него барахлила, да ещё правый глаз ему в том году бык повредил… Эх, отец, отец … – сказал он с долгим вздохом. – Среди тех людей был один: башка как у коровы и очки – представляешь корову в очках? – так он особенно сильно сопротивлялся. Судили-рядили, в конце концов, один из них отвёл меня в сторонку, дескать, не кипятись, этот очкастый вообще-то добрый человек, если ты к нему подход найдёшь, он подпишет… Я просто взбесился.… – Тут мой сверстник поднял голос почти до крика. – Поехал я в город, к их главному. А там какая-то крашеная баба меня к нему не пускает, говорит, мол, иди оденься прилично, да побрейся. Ещё субчик был какой-то, поддакивал ей: иди, говорит, через месяц придёшь, а сейчас шефа нет на месте… Кровь мне в голову ударила… – Мой сверстник явно закусил удила. – Оттолкнул я эту бабу, чтобы войти, а тут и субчик этот встрял: закрыл собой дверь и не пускает. Ну я его так двинул, что он растянулся на полу – от мёртвого не отличишь… Вошёл в кабинет, достал без долгих разговоров нож и приставил к пузу самого главного, говорю: “Подпиши пенсию, не то кишки выпущу, подпиши… подпиши… подпиши…” Погоди, о чём речь шла? – вдруг очнулся он. – Вылетело из головы…– и растерявшись, смолк.
Я был разочарован. Правда, всё так и произошло, кроме последней части рассказа, когда он сказал, что поехал в город…– это выдумка, враньё. Никуда он не ездил или, если даже добрался до города, в кабинет “главного” его не пустили, так что вернулся он не солоно хлебавши и по ночам ворочался в постели, терзаемый сознанием собственного бессилия, и вполголоса клял этот мир и его порядки; нафантазировал всё это, а рано на рассвете снова взял в руки пастушью дубинку и понуро погнал своё стадо в сторону гор.
– Фактически турок и машина – одно и то же, – неожиданно заключил пухлый.
– Давай, давай ещё по одной закурим, – обращаясь к карабахцу, с горечью произнёс мой сверстник.
IV
Я встал. Темнота сгустилась: река, камыши, степь были погружены в сплошной сумрак, густой, бескрайний. И во мне тоже был такой же слепой, бесчувственный, не причастный ни к чему сумрак. Казалось, стоит мне сделать движение – и сорвусь в пропасть. И меня охватил беспричинный страх, на мгновение я ощутил вселенскую тишину, ощутил всем существом. Заплутавший ночной жук ударил меня в лоб и рухнул в пропасть, потом с той стороны, где должна быть река, один за другим послышались глухие всплески. “Рыбки, – несказанно обрадовавшись, сказал я, – охотятся на комаров…” Почувствовал, что внутри у меня всё понемногу оживает, и повернулся в сторону нашего окна.
Сонмы насекомых, роями и поодиночке, как одержимые, атаковали стекло окна, стремясь прорваться к свету. Прилагая огромные усилия, они поднимались до определённого места, откуда неминуемо падали вниз, чтобы с завидным усердием снова начать восхождение и снова свалиться. Я обратил внимание на крупноголовую блестящую букашку: в одиночестве медленно ползла она по краю стекла – тяжело, неуклонно, сосредоточенно. Меня позабавила её задумчивая степенность. Я улыбнулся, и меня тут же пронзила такая острая, неодолимая тоска по дому, жизни и любви, что сердце болезненно защемило…
С противоположной стороны послышался резкий шелест камыша, я насторожился и услышал грудной девичий голос: “Ой, я вся мокрая!..”, но шум, производимый стеблями, не дал мне дослушать до конца. Тут же откликнулся тонкий ироничный голос мужчины, сказавшего что-то неразборчивое. В ответ прозвучал весёлый, слегка укоризненный смех девушки, показавшийся мне знакомым: я слышал его с противоположного берега, когда спускался к реке. Я сделал несколько шагов навстречу голосам и остановился, вглядываясь в тёмную массу камыша. Шелест прекратился, на миг наступила тишина, потом я услышал шёпот: они, видимо остановились и тихо переговаривались. “Нет, не надо, ты оставайся…” – прозвучал, наконец, голос мужчины, однако, как ни удивительно, вовсе не оттуда, где они должны были быть по моему предположению, а прямо передо мной.
Непроницаемая камышовая стена вдруг дала трещину, из неё вышел человек в светлой сорочке и, на ходу отряхиваясь, направился ко мне. Это был среднего роста худой, узкоплечий и длинношеий молодой человек.
– Привет армянскому народу!.. – с фамильярностью, к которой примешивались насмешливые нотки, сказал он, направляясь ко мне.– У вас тут вполне светло, а ещё говорят, что армяне…– тут он осёкся, сообразив, что собирался ляпнуть что-то не то. – Гм, приятель, всё трудимся и трудимся? Вкалываем круглый год, а жиреет чёрный кот?.. – Подойдя, он протянул руку. – Ну, как дела?
Вблизи я внимательно его рассмотрел: и в чертах лица, и во взгляде было что-то напряженно-острое. Скорее всего, татарин.
– Как в прошлом году, – сухо ответил я.
Немного смутившись, он вопросительно взглянул на меня: видимо, не ожидал подобного ответа; потом, отведя взгляд, ухватился за первую мысль, появившуюся в голове в эту минуту, и сказал, что он всегда хотел познакомиться с нами, но как-то не удавалось, за что он просит у нас прощения, но обещает, что однажды с друзьями они обязательно, обязательно придут, устроим хорошую пирушку и так далее. Он говорил быстро, не переводя духа, нашёл повод рассказать о каком-то глупом розыгрыше, сути которого я не уловил, потом перешёл к собственным похождениям с другом-армянином, которого он вызволил из-под суда, а затем, помолчав, заявил, что Иваныч – близкий друг его отца, и, хотя у него самого отношения с отцом в данный момент довольно натянутые, он всё равно попросит его замолвить Иванычу словечко за нас… Не переставая говорить, он делал какие-то странные движения: медленно пятился и возвращался, легонько покачиваясь, слегка наклонялся то вперёд, то вбок, но он не был пьян, и в течение всего этого времени его узкие глаза были неподвижны и сосредоточены. Я глядел на него в полумраке и внезапно мне показалась абсурдной сама возникшая ситуация: вот стоит некий человек и долго о чём-то разглагольствует…
Я нетерпеливо переступил с ноги на ногу.
Он попросил у меня сигарету и, закурив, стал заискивающе извиняться за назойливость, после чего попрощался, отошёл на несколько шагов, но вдруг ударил себя ладонью по лбу, дескать, чуть не забыл, тут же вернулся и, твёрдо встав передо мной, раздельно произнес:
– Мне нужна бутылка армянского коньяка.
– Нет у нас коньяка, – резко отказал я, – нет.
– Сын моего друга в больнице, – мгновенно соврал он, не сводя с меня угрожающе-властного взгляда. – Мне надо отнести коньяк его врачу, я обещал…
Я собирался опять же отказать, но в эту минуту тростник снова зашуршал и из него появилась девушка. Она не спеша, по-женски уверенно подошла к нам; её платье в самом деле было мокрым, оно прилипло к телу, подчёркивая в скудном свете её бёдра, голые плечи и неестественно большую грудь. Она подошла к нам вплотную, слегка оперлась на руку мужчины и молча уставилась на меня. Это была совсем ещё юная девушка, не слишком красивая, но сильная и полная жизни. Она не спускала с меня глаз, хорошо понимая, что её неожиданное появление не могло не произвести на меня впечатления; в самом деле, сердце у меня ёкнуло и я невольно отступил. Я старался не смотреть на неё, но чувствовал её приглашающий взгляд, в котором была и наигранная женская любознательность. Мне даже подумалось, что это вовсе не её взгляд, что она слишком юна для него…
– Нет у нас… – глубоко вздохнул я. – Был бы – дали бы…– добавил словно оправдываясь.
– Ну ладно… – Словно озабоченный чем-то, мужчина неожиданно смирился. – Пошли, Мира…– Тон был решительным и в то же время равнодушным.– Зря ты так поступаешь, приятель, я армянам много хорошего сделал. – Швырнув окурок, он грубо подтолкнул девушку и двинулся прочь.
Дойдя до зарослей камыша, где было уже совсем темно, мужчина вдруг круто обернулся и, схватив девушку за руку, сказал ей что-то, от чего та, как мне показалось, отшатнулась и стала ему горячо возражать. Бросив взгляд в мою сторону, он шёпотом быстро-быстро заговорил. Видимо, пытался в чём-то её убедить, но та упрямо повторяла: “Нет… ни за что…” Не обращая на её возражения никакого внимания, мужчина стоял на своём: он шептал ей в ухо, словно кто-то мог его подслушать. В конце концов, девушка, по-видимому, согласилась, поскольку мужчина заметно оживился и одобрительно похлопал её по плечу. “Ладно, только ничего лишнего…” – донёсся голос девушки. Оставив её, мужчина бодрыми шагами вернулся ко мне.
– Приятель, – взяв меня за руку, произнёс он уверенным тоном, – забудем наш прошлый разговор…– Во всём его облике, голосе, движениях было что-то низкое, и это мне не понравилось. – Хочешь, возьми на час, – вдруг выпалил он.
– Что взять? – не понял я.
Он оставил мою руку и улыбнулся. Улыбка была снисходительно-каверзной.
– Ну… – протянул он, мотнув головой в сторону камышей, но ещё не успел ничего добавить, как я понял, что речь о девушке.
– Как? – не поверил я собственным ушам. – Ты… значит… предлагаешь…– Чувствуя, что меня охватывает бешенство, я был не в силах продолжать и только впился в него глазами. Вид у меня был, наверное, устрашающий, потому что он отпрянул, движениями и жестикуляцией показывая, что не имел в мыслях ничего плохого. Ещё мгновение – и мой кулак врезался бы ему в лицо, но внезапно, словно поражённый молнией, я остановился и обмяк, скованный неожиданным страхом. Я вспомнил того пьяницу, который сказал, что татары Фаска хотят разграбить наш домик, и это показалось мне вполне вероятным. Разжав кулак и тряхнув рукой, я повернулся и медленно пошёл к дому. Поставив ногу на порог, услышал брань разочарованного мужчины и нервный голос девушки, которая его звала, но я уже закрыл за собой дверь.
V
Войдя в вагончик, я остановился. На миг удивился, что вокруг свет. Словно вернулся из какого-то долгого беспросветно-тёмного путешествия. Прищурил глаза и сразу же погрузился в заботы. Вдруг появилось чувство, что кто-то из нас отсутствует. Оглядел комнату: все на месте.
Сидя на кровати, мой сверстник молча и сосредоточенно латал с помощью проволоки свой порванный ботинок. Он никак не отреагировал на мой приход, но по лицу пробежала тень: по всей вероятности, моё появление было ему неприятно. Отведя от него взгляд, я как обычно пошёл к своей кровати. Съёжившись, зарывшись головой в грязную подушку и зажав руки коленями, спал карабахец – совсем как зябнущий младенец. Я взглянул на него – и что-то болезненно шевельнулось в груди, подумал о том, какие несчастья обрушились на его семью, но воспринял это как уже нечто отошедшее, далёкое, и, испустив лишь глубокий вздох, мне самому показавшийся неискренним, перевёл глаза на пухлого, что было похоже на бегство. В той же позе, что и перед моим уходом, сцепив руки на животе, он лежал неподвижно, глядя в потолок. Неожиданно я на миг потерял ощущение времени: показалось, что я никуда не уходил.
– С кем это ты говорил? – вполголоса, не поднимая глаз, спросил мой сверстник.
– Да так… – сказал я, садясь на кровать. – Коньяк просили.– Я взбил подушку. – Мы для них дойная корова, – пробормотал, – все, кому не лень, что-то просят. – Я перевернул подушку. – И одежду мою ук…
Я круто повернулся в сторону своего сверстника: он смотрел на меня пристально и мрачно. Видно было, что страшно обижен. Наверное, решил, что я намекаю на ту злосчастную бутылку коньяка, которую мы припрятали на чёрный день и которую он в связи с покупкой новых часов прикончил вместе с той девушкой из города, что “училась на прокурора”.
– Нет, в самом деле, – улыбнулся я, – просили коньяк…
– А что там за птичка щебетала? – спросил он, не сводя с меня испытующего, подозрительного взгляда.
Я улыбнулся ещё шире: каждый раз, когда я на какое-то время уединялся, моему сверстнику казалось, что я улизнул ради встречи, говоря его словами, с очередной “смазливой птичкой”, оставляя его “бобылём”. Он считал это своего рода предательством и относился ко мне с неприкрытой завистью и злостью. Предположение, что я тайком встречаюсь с местными красавицами, тешило моё тщеславие, и я не особенно стремился доказывать ему обратное. Но сейчас почувствовал себя виноватым и поспешил развеять его подозрения, рассказав и о пьяницах на берегу реки, и о краже моей одежды, и о молодом татарине и его девушке, одновременно понимая, что отчитываясь перед своим сверстником, я тем самым ещё больше себя унижаю. Внезапно в голове у меня вспыхнула мысль, что он, вполне возможно, выдумал и скормил нам эту историю с часами, чтобы показать, что равен мне и может пользоваться прелестями жизни точно так же, как, подразумевалось, это делаю я. Усмехнувшись, я откинулся спиной к стене. Несколько мгновений я не мог поднять голову и взглянуть на него, поигрывая мускулом руки, однако чувствовал на себе его тяжёлый взгляд. Сказал нервно:
– Жарко…
И сам удивился тому, что голос мой дрожит.
– Почаще сиди в собственной тени, – с едкой насмешливостью сказал мой сверстник.– И не увиливай от разговора. – Он бережно опустил на пол башмак. – Исчезаешь, сматываешься, как тот…– Видимо, по привычке он хотел провести параллель между мной и самым безнадёжным членом своего стада, но, прикусив язык, продолжать не стал. – Чем же всё это кончится?..
– Откуда мне знать?.. – мотнул я головой. – Чем-нибудь да кончится… - Я стал по одной открывать прилипшие к штанинам комочки грязи. – Жизнь покажет. Или вол сдохнет, или его хозяин…
– А знаешь ли ты… – Мой сверстник выдержал прочувствованную паузу и я, догадавшись, что он собирается поразить меня историей карабахца, посмотрел на него со снисходительной улыбкой. – Знаешь ли ты, что этот человек, – отведя взгляд, он указал рукой на спящего карабахца, – завтра должен уехать домой?..
– Знаю, – оборвал я его, – и лучше, чем ты…
– Гм… ты, значит, ещё и подслушиваешь тайком?.. – побледнев, сказал он многозначительно, – но…
– Ты лучше о себе думай, – осадил я. – Чужими руками дорогу себе не расчищай!
– Моя дорога открыта, захочу – хоть сию минуту уйду!
– А деньги? – съязвил я.
– Нагрузишь с Иванычем вагоны и пришлёшь, – не остался он в долгу.
Я улыбнулся, но это была улыбка побеждённого. Душа во мне съёжилась, сузилась до размера игольного ушка. Почувствовал, что задыхаюсь. Ухватился за пухлого.
– О чём молишься? – Я наклонился над ним и ткнул указательный палец ему в бок. – Может, тоже собираешься драпануть?
Выходило так, что я рассчитываю на его помощь.
– Я говорю: наши армяне башковитый народ, а ума у них нет, – неизвестно чему обрадовался пухлый. – Я не дурак, чтобы уезжать. – Его слова по-прежнему были направлены против моего сверстника. – Найду кого-нибудь, птенцов выведу, а осенью сяду и буду считать…
– Птенцов или деньги? – пошутил я, пробуя вернуть утраченные позиции.
– И то, и другое, всё…– Он рывком сел на кровати и уставился на меня насмешливым, как мне показалось, взглядом.
Я пытался заглянуть в его маленькие, прищуренные глазки, поймать его взгляд, но он зажмурился, надул щёки и издал громкий фыркающий звук; при этом оттопыренная часть его губы была так издевательски подчеркнута, что это показалось мне оскорбительным. Я почувствовал, что бледнею, понимая: он тоже бросил меня, оставил в одиночестве.
– Осточертели вы мне! – взорвался я неожиданно для самого себя и яростно ударил кулаком по изголовью кровати. – Катитесь отсюда все!– Я рывком поднялся на ноги, жестами давая понять, что хочу избавиться от них. – Значит, я среди вас самый безмозглый – так, что ли? Потому что день и ночь думаю о вас, дураках?.. Правильно делаете, хорошо делаете, так мне и надо!.. Можно ли быть таким идиотом! – жалея самого себя, воскликнул я с трагическими нотками в голосе. – Думал: пойду домой к Иванычу, – на ходу сочинил я и в ту же минуту поверил, что так и было, – попрошу, в ножки ему поклонюсь, скажу…
Я бросил мимолётный взгляд на сверстника, который со скорбно-торжественным лицом впился зрачками в какую-то точку, совсем как в день похорон его отца, когда он стоял у двери в прихожую, одной рукой гладя по голове прижавшегося к его ногам малыша четырёх-пяти лет, самого младшего своего брата, а другой водя по стене, словно ища место, за которое можно уцепиться… И почему-то, может быть, совершенно не к месту, вспомнил сундучок, замурованный его дедом в стене хлева и случайно обнаруженный после его смерти; думали, что нашли целое состояние, но, откинув крышку, обомлели: сундучок был доверху набит вырезками из старых газет, бережно сохранёнными, пожелтевшими от времени портретами руководителей всех калибров и их речей, наполовину съеденных молью…
– Не знаю как ты, но мы не дураки, – тяжело и раздельно произнёс пухлый. – Лично я – не дурак.
Я повернулся к нему; он спокойно смотрел мне в глаза, словно хотел сказать: “Что, не ожидал?” Вспомнил, что должен ему деньги…
– Хорошо, – сказал я печально, – пусть дураком буду я. Дальше что?
– А дальше то… – вскинулся мой сверстник, опустив ноги на пол и вполоборота повернувшись так, словно готовился к нападению, – а дальше то, что мы тут горбатимся от зари до зари, как же Иваниыч может не дать мне мои деньги? Разве это по закону? Закон – это для меня всё, – сказал он протяжно и внушительно.
– Ну и сказанул! – словно подражая ему, произнёс я тем же тоном. – Кто в наше время считается с законом? Ты же сам только что рассказывал…
– Как это так? О чём ты говоришь? – Мой сверстник был явно расстроен, и я понял, что он, вопреки всему, сохранял в глубине души надежду, а я только что отнял её. – А этот человек, что, не думает о том, что у меня дети? Как я могу вернуться домой с пустыми руками?
И вдруг он изменился в лице: мне показалось, что с него исчезло осмысленное выражение, оставив после себя замутнённые гневом глаза, в которых затаились ужас и ненависть.
– Послушай, – прорычал он, ещё больше наклоняясь в мою сторону, – знаешь, что я тебе скажу? Веди себя смирно… Думаешь, я не знаю? – сверкнул он глазами.
– Что ты знаешь? – спросил я озадаченно.
– Думаешь, не знаю, чего ты добиваешься? Ты считаешь, что если я коров пасу, значит, ничего не смыслю?.. Э-эй! – с каким-то удовлетворением покрутил он пальцем над головой. – Тысячи таких, как ты, отведу к воде и не дам напиться. Посмотрите на этого умника!..
– Говори, если что-то знаешь! – выкрикнул я раздражённо. – Не бросайся то в гору, то в низину… Говори, если есть что сказать…
– Не тяни меня за язык, – снова пригрозил он. – Скажу – сам удерёшь отсюда по горам да по низинам. Сказать?..
– Говори! – пришёл я в неистовство. – Говори, что у тебя на уме.
– И скажу! – Решительно ударив кулаком по кровати, он встал. –Ты хочешь, братец наш дорогой, – он многозначительно понизил голос, – ты хочешь всех нас… отослать домой, чтобы потом тихо-мирно поделить с Иванычем наши денежки…
Я застыл на месте. Показалось, что ударился обо что-то тёмное и свалился. В голове гудело, несколько мгновений я смотрел на него, не мигая. И внезапно в голове у меня прояснилось: Фазиль! Один из подручных Иваныча, долговязый, с приплюснутым лицом пьяница, он в последнее время сблизился с моим сверстником и полунасмешливо-полусерьёзно внушал ему, что самый умный из нас, армян, именно он, и пообещал подарить ему плетёный кнут.
– Пропади ты пропадом, – бросил я в бессильном гневе. – Мозги отключил напрочь и с каждой собакой дружбу заводишь. – Я повернулся к пухлому. – Слыхал, что дружок твой обо мне говорит?
Пухлый хмуро уставился в пол и даже не поднял головы. Мне показалось, что он тоже замышляет какие-то козни.
– От меня отстаньте, – пробормотал он. – Я себе уже приглядел место…
– Тебя-то какая муха укусила? – вздохнул я. – Что ещё за место?
– Место как место… хорошее… – промямлил он. – Самое обыкновенное место – без рогов и без хвоста…
– Да что ты тянешь, говори как есть!
– Дружок Иваныча без шофёра остался, – решившись, быстро проговорил он. – Я уже обсудил с Борькой…
– Ясно, – перебил я его. – Выходит, я один тут как бельмо на глазу. Я вас понял, только рассветёт – меня и след простынет, – попробовал я на них подействовать. – Доволен вами и благодарен по гроб жизни… А ты, – снова повернулся я к сверстнику, – сию минуту попросишь прощения.
– У тебя? – усмехнулся он, гримасничая.
Тут я потерял контроль над собой, это был предел, последняя точка.
– Сейчас я из тебя дух вышибу! – взревел я, сжав кулаки. – Вы за кого меня приняли? – Я грозно двинулся к сверстнику, тот растерянно взглянул на меня, потом торопливо нагнулся и поднял с пола свой башмак…
И вдруг мне стало стыдно. Я остановился.
– Что случилось?.. Что случилось? – проснувшись от шума, сел в постели карабахец, о существовании которого я напрочь забыл. Вид его меня невольно позабавил: разинув рот, он мутными, заспанными глазами с детским удивлением смотрел то на меня, то на моего сверстника, потом потёр ладонями лицо и широко зевнул. “И он должен был отомстить за брата?” – мысленно ухмыльнулся я, но в тот миг его взгляд, его вид были так младенчески наивны и простодушны, что я не смог сдержать улыбку. Почувствовал, что всё снова вернулось и стало на свои места. Потом услышал, как мой сверстник отшвырнул свой башмак и вышел, громко хлопнув дверью.
– Хотя очередь и не моя, – немного помолчав, сказал карабахец,- но я схожу. – Он встал и начал одеваться.
– Куда? – не без тревоги спросил я.
– К хозяйке козла, – ответил он. – Разве вы не из-за дров спорили?
– Гм… А ведь так и есть…– Я вернулся и сел на кровать. – Чья сегодня очередь? – Властно уперев руки в колени, я с удовольствием чувствовал, что снова становлюсь собой. – Не твоя ли, шеф? – обратился к пухлому, который с мрачным видом сидел в той же позе.
– Сегодня я воды натаскал, – резко и сухо ответил он. – Так что своё уже отработал…
– Ну и чёрт с вами, голодайте, – пожал я плечами, – я-то к голоду привык.
Подложив руки под голову, я растянулся на кровати.
– Сходи, посмотри, что там делает твой друг сердечный, – немного погодя обратился я к пухлому. – Как бы его злые духи не похитили…
Недовольно бурча, пухлый сделал движение, чтобы встать, но в эту минуту в комнату, топая ногами, ввалился мой сверстник, волоча за собой мешок извести, который мы пообещали дать приехавшему издалека крестьянину со странным именем; тот сказал, что через несколько дней заедет за ним на машине, но так и не появился.
– Жалко, промокнет, – проворчал мой сверстник, пристраивая мешок в углу. – Дождь начинается. – Он вытер руки и бросил полотенце на спинку кровати. – Никто и не почешется. Не будь меня… – Он не закончил и, махнув рукой, хмуро улёгся на кровати.
Я заметил его влажные глаза и подумал, что он плакал…
VI
Прошло немного времени, и дождь забарабанил по крыше – сначала тихо и прерывисто, а потом всё усиливаясь. “Нашло время нас поливать, –мысленно ругнул я небо, – тоже, видимо, умом тронулось”. А вскоре дождь сменился грохочущим ливнем, и показалось, что он словно объединил нас в каком-то подземном молчании. И внезапно жгучий стыд от сознания, что мы можем вернуться домой без гроша в кармане, заставил меня сжаться от ужаса. Во мне снова поднялась волна отчаяния и гнева против этого пресловутого Иваныча, и тут я с удивлением поймал себя на том, что хотя всей душой ненавижу его и боюсь, но в то же самое время не воспринимаю его всерьёз, – возможно, и по той причине, что в чём-то мы с ним всё-таки равны: он живой человек – с ногами и головой, носом и глазами, – и то обстоятельство, что он, как и мы, наделён плотью, невольно подсказывает тайную и последнюю возможность положить конец всей этой истории.
“А почему бы и нет? – подбодрил я себя мысленно. – Как поступили лезгины, так поступим и мы…”
Лезгины, проведя осень, зиму и весну в бесплодном ожидании причитающейся им суммы и потеряв всякую надежду, однажды ночью подожгли ими же построенные двенадцать бревенчатых домов и скрылись… Разбрелись в разные стороны в поисках новой работы. С одним из них я встретился в Татарии; это был пожилой мужчина с грязной растрёпанной бородой и в столь же грязной, сильно поношенной одежде. Он наставлял меня на ломаном русском, что не следует скитаться понапрасну, надо возвращаться домой, потому что голодать в собственном доме гораздо большее счастье, чем в чужой стране лелеять надежды, которые “всё равно тебя обманут”. Потом он с горькой обидой поведал о том, что случилось с ним и его друзьями, последними словами поминая какого-то корейца, который и пристроил их к делу, а в конце, когда все двенадцать домов были готовы, взял у них всю имевшуюся наличность, якобы для того, чтобы ускорить получение полного расчёта за проделанную работу, и попросту смылся… Немного помолчав, чтобы подавить негодование, лезгин придвинулся и доверительно шепнул мне на ухо, что они в долгу не остались: месяц спустя ребята поймали этого корейца, перерезали ему горло и бросили в реку. Слушая его сбивчивый рассказ, я согласно кивал головой, однако не верил в его достоверность, ибо чувствовал, что финал этой истории придуман им себе в утешение…
Я беспокойно заворочался.
“Однако как может человек сжечь дом, который построил собственными руками? – подумал я. – Пролить столько пота и вмиг уничтожить…”
И вновь мной овладела боязнь неизвестности, и вновь я ощутил свою беспомощность и бессилие, сознавая, что как бы я ни вертелся, всё равно оказываюсь в той же точке и вижу перед собой ту же неопределённость. Я с усилием, почти мучительно повернулся к стене, удивившись тому, что, кажется, отяжелел десятикратно, когда в памяти неожиданно мелькнуло и тут же исчезло лицо той девушки в камышах, и снова, как и в момент её реального появления, тело отозвалось лёгким трепетом. И на какой-то краткий миг я даже пожалел, что упустил такой удобный случай…
“Но до чего же подлый тип… - проворчал я, устраиваясь удобней и стараясь подавить в себе невольно возникающие эротические фантазии. – А та девица… та девица… Э, да ладно…” – вздохнул я, но чем больше старался отогнать от себя навязчивые картины, тем более отчётливые формы они принимали и наплывали на меня, постепенно погружая в свой мягкий и тёплый, какой-то уютный дурман. Я сноваживо повернулся на спину, чувствуя, что голоден.
“Не сходить ли к хозяйке козла?” – мелькнула мысль, но я продолжал лежать.
Эта старушка жила довольно далеко от нас, в покинутой всеми деревне, одна-одинёшенька, в избушке, построенной в незапамятные времена. Тщедушная, худая, неопределённого возраста старушка с маленькими круглыми глазами, с круглым, изборожденным бесчисленными морщинами личиком и острым подбородком. Была она туговата на ухо и заикалась так сильно, что её невозможно было понять. Всё, что у неё было, – густоволосый, чёрно-белый козёл с роскошной бородой и десяток кур. Каждую курицу старушка нарекла собственным именем и никогда их не путала, когда подзывала к себе, а козёл носил имя Мле или Мале. Была у старушки ещё небольшая деревянная тележка, в которую она впрягала козла, если нужно было перевезти что-нибудь не слишком тяжёлое. Есть ли у старушки потомство, мы так и не выяснили, потому что на этот вопрос она отвечала то “да”, то “нет” и всегда добавляла “десяток”, по-видимому, имея в виду количество кур. Жили они с козлом в одной комнате: козёл спал у печки, а старушка у окна, и иногда перед сном, она разговаривала с ним, сильно заикаясь, а он молча лизал свою ногу и кивал головой. Со старушкой мы познакомились так: однажды во время работы услышали с берега реки панический визг. Не выдержав тяжести тележки, козёл свалился в воду и отчаянно барахтался. Старушка жалобно причитала на берегу, беспомощно металась и царапала себе лицо ногтями. Не успел я понять, что произошло, как мой сверстник ринулся на помощь и вытащил из воды уже хрипевшего козла. Старушка благословила нас. Потом долго заикалась, пытаясь объяснить нам что-то, чего мы так и не поняли. А когда поздно вечером, закончив работу, вернулись, как обычно, в свой вагончик, увидели перед дверью бережно завёрнутые в тряпицу десять яичек. С того дня мы поочерёдно раз в два-три дня ходили к ней колоть дрова, а она нам давала варёные яйца…
Неожиданно я услышал рядом звук, похожий на тихий смех. Огляделся и не смог скрыть удивления, потому что все лежали молча и неподвижно. Опершись на локоть, я вытянул шею. Пухлый тоже поднял голову и вопросительно смотрел на меня. Смех повторился – на этот раз громче. Карабахец! Он снова спал, двумя руками обхватив голову, бессильно разбросав ноги, и смеялся во сне. Это был странный, нервический смех, обычно он так не смеялся; казалось, этот смех рождается в каких-то далёких и тёмных глубинах – с той же силой, без нарастания звука, и исчезает тоже сразу, не слабея, не становясь тише. Карабахец смеялся как бы тайком, скрытно, в перерывах что-то бормотал и снова смеялся. Неожиданно перестав смеяться, он громко и внятно сказал: “Нет, я уеду…”, а немного погодя: “Считай, что это сделано…” На миг выжидающе смолк, потом снова стал смеяться…
Мы с пухлым переглянулись и, кажется, подумали об одном и том же. Он придвинулся к карабахцу и начал его трясти:
– Проснись!..
Что-то промычав, тот сел в кровати, но, кажется, ещё не проснулся и смотрел по сторонам мутным отсутствующим взглядом. Наконец, очнулся и мы встретились глазами. Мне показалось, он смутился, на лбу мгновенно появилась испарина. Точно провинившийся, он опустил голову. Я подмигнул: дескать, всё хорошо, не переживай…
– Как ни стараюсь, а всё не выходит из головы хозяйка козла, – сказал я, сам не зная к чему. – Фактически эта старушка умнее нас.
– Нашёл о чём думать – досадливо отозвался пухлый. – Может, женишься на ней, если не можешь забыть? – съязвил он.
– Уф!.. – сдавленным голосом прохрипел мой сверстник. Ударив ногой в спинку кровати и что-то пробурчав, он повернулся к нам спиной и уткнулся в подушку. Потом, немного помолчав, добавил свою обычную фразу, которую любил повторять к месту и не к месту:
– Плакать надо, а вы смеётесь…
Снова воцарилась тишина.
Мухи заметно оживились, и я обратил внимание, что дождь прошёл. Неожиданно меня охватила такая необыкновенная лёгкость, что сердце наполнилось радостью, показалось, что я покинул собственное тело и могу взглянуть на себя со стороны. Вот я лежу на кровати – рот приоткрыт, руки под головой – и смотрю вверх. И впервые я в полной мере – душой и телом – осознал наше положение и ту безнадёжную пустоту, в которой мы живём, точно в пещере. Мозг стал лихорадочно искать причины этого, но причин не было. Было только оно – сложившееся положение. В памяти медленно проснулась какая-то непристойная песенка, которую я слышал неизвестно когда и где. Спешно ухватился за неё, стал напевать. Стало быть, снова ко мне тайком подбирается самое чудовищное – Великое Ничто. Всякий раз, чувствуя его близкое дыхание, я бессознательно начинал говорить сам с собой, громко высказывая всё, что в ту минуту вертелось на кончике языка, или мурлыча себе под нос какую-нибудь песенку, – делая вид, что всё хорошо. Оно приходило тайком, беззвучно, сметая всё с пути: я сжимался, пережидая, и вздыхал облегчённо, когда оно уходило прочь. Сейчас я уже понял, что от него спасения не будет, и, хотя торопливо, захлёбываясь, без конца повторял строку из той непристойной песенки, оно тем не менее всплыло наружу и окутало меня своим плотным туманом. От невыносимого внутреннего давления появилась боль в висках. Я закрыл глаза, и всё перестало существовать – лишь безлюдье, пустота и мрак…
“И это называется жизнь…” – далёким лучиком сверкнула в голове мысль.
Бесконечно долгое время я оставался в этом состоянии, потом почувствовал, что, кажется, прихожу в себя и что глаза медленно раскрываются.
“Прошло”, – украдкой проникла в голову мысль.
Потом взгляд мой скользнул к окну вагончика и меня поразила его чернота. Показалось почему-то, что именно сейчас за ним что-то происходит. Я повернулся лицом к двери.
К ночным внешним звукам мы были привычны. С наступлением темноты в камышах, в крапивнике, на болотах по обоим берегам реки начинала кишеть мошкара, и вместе с нею округу наполняли пьяницы, наркоманы, рыбаки, “влюблённые парочки”, воры, потерявшие скотину крестьяне, сбежавшие из тюрьмы “невинно осуждённые” или просто заблудившиеся люди…
Внезапно с тыльной стороны вагончика послышался глухой звук, как если бы что-то тяжёлое шмякнулось оземь, потом из дальних зарослей камыша донёсся чей-то зов, заглушённый мычанием коровы, в ту же минуту кто-то стремглав пробежал под нашим окном и, наткнувшись на неведомое препятствие, упал; и ещё было такое ощущение, что кто-то стоит перед дверью. Показалось даже, что я слышу его прерывистое, беспокойное дыхание, словно человек намерен войти, но колеблется.
“Татары”, – пронеслось в голове.
Я непроизвольно потянулся к стоявшему рядом с кроватью ветхому, расшатанному стулу и, взяв раскрытые ножницы, валявшиеся рядом с пепельницей, присел на кровать в тревожном ожидании.
Пухлый тоже опустил ноги на пол, в недоумении глядя на меня.
– Спокойно, – сказал я. – Всем оставаться на местах.
– Трусишки, – подал голос мой проснувшийся сверстник. – Собственной тени боитесь!.. – Он хотел было встать, но передумал.
Все обратились в слух.
Вытянув из-под кровати свою сумку, пухлый начал лихорадочно копаться в ней дрожащими руками. Мой сверстник и карабахец одновременно сунули руки под подушку, и я понял, что они внутренне готовились к опасностям; и в голове замелькали бесчисленные ситуации: драка, боль, убийство, беда, боязнь, отчаяние, предательство, побег… Лицо моё словно окаменело, я почувствовал, что меня охватывает холодная и расчётливая решимость. И вдруг, без какой-либо связи, мне вспомнилась встреченная как-то в поезде гигантских размеров толстая женщина: наклонившись, она невероятным усилием пыталась завязать шнурок на обуви и никак не могла до него дотянуться; и тут же мне почему-то подумалось, что причина возникшей опасности в том, что я не ударил того татарина, предлагавшего мне свою подругу за бутылку коньяка.
– Тьфу!.. Зря я не дал по роже той скотине, – пробормотал я сокрушённо. – Зря!
В ту же минуту кто-то, топоча ногами и предупредительно кашлянув, подошёл к двери, со скрипом открыл её и в свете комнаты появился жуткого обличья человек: небольшого роста, с большой и круглой головой, огромным выпуклым лбом, остроскулый, с тяжёлой челюстью мужчина лет за пятьдесят, грязный, в растрёпанной одежде и заляпанных ботинках. Один его глаз был слеп, и через всё лицо тянулся шрам, терявшийся в жёстких волосах подбородка, а здоровый узкий глаз смотрел внимательно и остро. Возможно, человек был казахом, а не татарином, и я, поспешно спрятав ножницы, был немного разочарован.
– Что случилось? – спросил я холодно и враждебно.– В чём дело?
Человек окинул быстрым взглядом наше жилище, словно оценивая имущество, и его ничуть не смутил ни мой агрессивный тон, ни мрачные лица и недружелюбные взгляды. Он сделал несколько шагов нам навстречу, и я заметил, что он ещё и хромаетна левую ногу. Молча остановившись посреди комнаты, человек почтительно приложил правую руку к сердцу и поздоровался. Мой сверстник незаметно зашёл ему за спину. Не показывая того, что он это почувствовал, человек жестом дал понять, что к нему не следует относиться подозрительно, ещё раз прижал руку к груди и поклонился. Мой сверстник тем не менее плотно закрыл дверь и остался стоять возле неё.
– Я очень люблю армянский народ, – неожиданнона хорошем русском языке обратился ко мне гость, моментально сориентировавшись и решив, что скорее всего “главный” тут я. Голос у него был осипший.
– Не морочь нам голову, – отрезал я. – Что тебе надо?
На удивление невозмутимо, что немного задело меня, он снова игнорировал мой вопрос. Скосив единственный глаз в сторону пухлого, человек слегка усмехнулся, и я заметил, что рядом с пухлым, на кровати, лежит его складной охотничий нож с обнажённым лезвием. Мне показалось, что этого человека я уже где-то встречал.
– У меня одиннадцать наследников, – не проявляя ни малейших признаков беспокойства, медленно и с затаённой гордостью проговорил он, снова устремив на меня единственный глаз. Он поднял испещрённые татуировкой руки и, растопырив пальцы, показал “десять”, затем прибавил к ним вздёрнутый большой палец. – Пусть аллах меня покарает, пусть я их лишусь, если говорю не от чистого сердца! – Сунув руку за пазуху, он извлёк какую-то тоненькую книжицу и протянул мне. – Я принёс вам отличный товар, специально для вас. – Он подошёл ещё на шаг. – Стоит он не меньше двадцати, но для армян – специально! – десять, – он чуть приподнял свободную руку.
От моей тревоги не осталось следа, и когда я подходил к этому человеку, во мне проснулось самодовлеющее чувство собственной силы и уверенности, но я тут же устыдился при мысли, что этот человек один, а нас тут четверо. Беря у него книгу, я краем глаза заметил своего сверстника: опустив голову, отрешённый, он стоял, легонько прислонившись к косяку двери, и меня удивил его грустный, почти скорбный вид.
– Очень хорошая для молодых… специально…– снова заговорил человек с улыбкой, обнажившей гнилые зубы, и с загадочным выражением лица. – Для армян – десять…– напомнил он.
Книга, по-видимому, представляла собой некое повествование, но на самодельном переплёте не были указаны ни название, ни автор. Мне стало любопытно, я быстро пробежал глазами первый абзац, содержавший красочное описание горного края. Почувствовал, как, постепенно оттаивая, дрогнуло сердце.
– Ах, – сказал я взволнованно, – это вроде о нашей Армении…– Я повертел в руках книгу. – Давайте возьмём… А кто автор? – приветливо спросил я у этого человека. – Наверное, казах?..
Словно застигнутый врасплох, человек испуганно отступил на шаг, что-то пробормотал на своём языке и стал отрицать энергичными движениями головы и рук.
Я остановился в недоумении.
– Да-да… всё верно… – с глубоким сочувствием и просительными нотками в голосе сказал, подойдя, мой сверстник. – Жалко его, бедный, убогий человек… Надо взять книгу… – И моего отца – царство ему небесное! – чем-то напоминает, – глубоко вздохнув, добавил он тихим голосом.
– А деньги? – растерялся я. – Да ведь у нас денег нет… Шеф, – повернулся я к пухлому, который был нашим “кассиром”, – может, у тебя там что-то завалялось?..
– Откуда? – взвился пухлый. – А то ты не знаешь, что ничего у нас нет! – Он нетерпеливо поёрзал, потом вдруг вспылил. – Что вы к нему прилипли? Гоните его, пусть катится отсюда!
– Уф, дай мне, господи, терпения… - угрюмо проворчал мой сверстник. Несколько мгновений он не спускал с пухлого ненавидящего взгляда, затем решительно подошёл к своей кровати и вытянул из-под неё чемодан. Беспорядочно порывшись в нём, достал пару тёплых шерстяных детских варежек, которую купил в поезде у какого-то мелкого торговца, принёс и отдал её этому человеку.
– Возьми, – сказал он с печальным умилением. – У меня тоже есть дети…
Человек недоверчиво глянул на меня, колеблясь, потом, приняв решение, взял варежки и мгновенно сунул их за пазуху, кивая головой в знак благодарности. Мне не понравилась эта поспешность, и я, слегка помрачнев, пожал его протянутую руку. Мой сверстник проводил человека, дружески положив ладонь ему на плечо. У самой двери тот стал на удивление красноречив: снова сказал, что очень любит армян, и если нам что-нибудь понадобится, – достанет из-под земли и вообще ничего для нас не пожалеет, даже собственной жизни…
Когда он, наконец, ушёл и за дверью смолкли его шаги, я, опомнившись, сильно пожалел, что мы совершили эту сделку, и хотел крикнуть и позвать его, но было поздно.
– Жалко человека, – закрыв дверь, сказал мой сверстник с виновато-довольной улыбкой.
Я покосился на него, и эта улыбка мне тоже не понравилась. Снова вспыхнула во мне прежняя обида. Я ничего не ответил.
– Нос отрежу себе, если этого человека не Иваныч нам подослал, – мрачно и многозначительно сказал вдруг пухлый. – Хотя мне-то какое дело!..
VII
– Что он пишет об Армении? – как бы между прочим спросил карабахец. Голос прозвучал мягко и грустно.
– Посмотрю – скажу, – ответил я, садясь на кровать.
– Тысячу лет тебе надо прожить, чтобы что-то понять? – взорвался пухлый, пряча нож под подушку. – Не твоя ли Армения довела нас до этого?.. Армения, Армения!.. – передразнил он кого-то неизвестного. – Что Армения? Сказал бы сейчас… – пригрозил он.
– Опять на тебя дурь нашла? – подперев спину подушкой, поинтересовался я. – Что ты мелешь?
– Это он от хорошей жизни, – подхватил карабахец. – Пожил бы с турками – иначе бы запел.
– Как же, как же… - буркнул пухлый, – можно подумать, мы в Армении весь мир на шампур нанизали и шашлычки жарим…
Карабахец не ответил, повернулся набок, спиной к нам.
Я начал читать. И настроение у меня резко упало: с чего я решил, что книга – об Армении? Не было в ней никаких горных пейзажей, было лишь наводящее скуку излишне подробное описание окружённого лесом лога, а в нём – узкий, продолговатый по форме, утопающий в густой зелени деревьев и кустарников особняк, проникнуть в который тайно мечтают все, но удаётся это лишь тем, кто умеет слушать голоса природы и посвящает свою жизнь идее истинной, свободной любви. Мне показались подозрительными и это описание и эта идея, я почувствовал, что тут затевается какая-то хитроумная игра, и смутно стал догадываться, что представленный автором пейзаж – аллегория женского тела; это привело меня в замешательство. На следующей странице говорилось уже о самом особняке, который, по мнению автора, “был волею бога создан для наслаждений свободной любви”, и автор, благодаря полёту своей мысли и фантазии, проник “в этот таинственный, полный загадок мир”, и вот в чистой, уютной, красиво убранной комнате нас встречает хозяйка дома – высокая, стройная, воздушная, дивная, с распущенными волосами золотого отлива, с глазами цвета морской лазури Элеонора; приняв ванну и накинув на себя прозрачный шёлковый халатик, она присела за столик и пишет письмо подруге. В письме она выражает глубокое сожаление, что её подруга, с которой они вместе всегда мечтали об усладах свободной любви, сегодня лишена того счастья, которое выпало на её, Элеоноры, долю, и она настоятельно советует ей бросить своего мужа, “эту противную канцелярскую крысу”, и как можно скорее приехать к ней. Ещё она пишет, что окружена здесь утончёнными людьми, которые ничего, абсолютно ничего не жалеют, чтобы её осчастливить. Она на собственном опыте убедилась, что свободная любовь и те обязанности, которые возлагает среда на жаждущих любви женщин, “понятия несовместимые”; далее автор представлял читателю одиссею Элеоноры – цель тех исканий, что в конечном счёте привелик райским прелестям свободной любви: как она, отпрыск интеллигентного рода, будучи помолвлена с известным ученым, в пику родителям бросила университет, “это логово обывателей” и, внимая зову природы, однажды убежала из дому на юг, дабы осуществить свою давнюю, заветную мечту и посвятить себя не кому-то одному, а именно ей – Любви, ибо Любовь…
Мне надоели подробности биографии Элеоноры, и я стал раздражённо листать книгу, отчётливо ощущая, как в груди просыпается какое-то мутное сладострастное чувство, а мысли начинают путаться. Понял, что, кажется, ищу в этой книге нечто совсем другое. Резко захлопнул её, затем, согласно своей привычке, открыл наугад где-то в середине и начал читать. Вскоре меня начало бросать то в жар, то в холод, и я, густо краснея, почувствовал, что двумя ногами угодил в расставленную ловушку: то, что описывал автор, было отвратительно. Книга жгла мне руки, хотелось разорвать и вышвырнуть её, но в то же время неведомая сила заставляла меня как можно скорее проглотить всё это, и я понял, что имею дело с примитивным жульничеством…
Я крепко зажмурил глаза, однако кошмар продолжался и перед закрытыми веками. Какая-то горькая, глубокая обида сдавила мне горло, сердце болезненно сжалось, в памяти вдруг зримо предстали детские варежки, и мне захотелось плакать. А через минуту волнение сменилось возмущением, возмущение - холодной и жестокой яростью, и я что было сил швырнул книгу; ударившись в раму окна, она в раскрытом виде, ничком, распласталась на полу.
– Что с тобой? – приподнявшись на кровати, изумлённо вопросил пухлый. – Только что мирно читал…– Он покрутил указательным пальцем у виска, давая понять, что я неожиданно спятил, потом встал.
Мой сверстник окинул меня тяжёлым взглядом и слегка пошевелил губами: видимо, хотел сказать что-то ехидное, но сдержался и лишь проглотил слюну. Вид у него был подавленный.
Пухлый подобрал с пола книгу, бережно отряхнул и начал читать с раскрытой страницы. Сдвинув брови и впившись в текст, он какое-то время напряжённо и внимательно читал, потом озадаченно улыбнулся, покраснел и, посуровев, скривился.
– А ты говорил, что это об Армении…– не глядя на меня укорил он вскользь. – Хм… но как они печатными буквами, чёрным по белому, пишут такие мерзости…– задумчиво-удивлённо добавил он и, закрыв книгу и немного подумав, положил её под мышку и направился к двери.
Меня удивило его спокойствие, потому что он больше других говорил о подобных вещах и во время работы приветствовал проходивших мимо девушек, адресуя им порой остроумные, порой допустимо-непредосудительные вольности.
– Куда это ты? – крикнул я вслед.
– В Армению, – донёсся его ответ уже из-за двери.
Немного погодя чёрный проём окна осветился снаружи колеблющимся пламенем, я понял, что пухлый предал книгу огню и на миг испытал что-то похожее на сожаление. Вначале было тихо, потом мы услышали, как он трамбует ногами золу, что-то вполголоса бормоча.
Я облегчённо вздохнул.
– Эй! На помощь!.. Элеонора горит!.. – ещё не войдя в дом, крикнул пухлый, подражая актёрам-трагикам. Он шумно ввалился в комнату, встал у двери, скорбно склонив голову и моляще простерев руки. – Ребята… неужели у вас нет совести?.. Поспешите… Элеонора… как же ее фамилия? Нет, фамилии не было… Элеонора горит!..
– Опять сдурел, – недовольно пробормотал мой сверстник. – А ещё жениться хочет с таким умишком… Тьфу! – Он стукнул кулаком по подушке и отвернулся от пухлого. – Не отличишь от обезьяны, – заключил он намеренно громко.
Пухлый пропустил эти слова мимо ушей. Неизвестно почему, настроение у него было приподнято-торжественное, в глазах горел немного насмешливый, весёлый и озорной огонёк. Прищурившись, он несколько мгновений поочередно изучал всех нас и внезапно крикнул:
– А-ра-о!..
Пухлый хлопнул в ладоши, энергично потёр руки, потом сорвался с места, подбежал к кровати моего сверстника и шутовски протянул к нему правую руку.
– Прости меня, господи! – Почмокав губами, мой сверстник угрожающе что-то прорычал. – Убирайся отсюда! – напустился он на пухлого, но прежнего холода в его голосе не было.
Пухлый схватил его правую руку, кое-как вытянул её из-под подушки и стал трясти что есть силы. Потом сразу оставил моего сверстника и метнулся к карабахцу, который полулежал на кровати, наблюдая за ним с лёгкой улыбкой, схватил и потряс его руку.
– А-ра-о!.. – снова крикнул пухлый во всё горло и подошёл ко мне; вращая в воздухе рукой, он затем с силой опустил её на мою выставленную руку и мы звонко поздоровались.
– Чему ты так радуешься? – спросил я с улыбкой, чувствуя, что его беззаботная весёлость передаётся и мне.
– А разве нам нужна причина, чтобы радоваться?.. – сказал он легко и небрежно. – Пусть нам будет хорошо всегда… А-ра-о!..
Пухлый крутнулся на месте и, упав животом на кровать, стал барабанить пятками по спинке кровати.
– А-ра-о!..
– А-ра-о!.. – неожиданно откликнулся мой сверстник. Сев на кровати, он сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул, а затем проявил все свои пастушьи навыки, перемежая посвистывания на разные лады выкриками “А-ра-о!”, точно он был на склоне Бердасара.
Я заткнул уши, почувствовав, что меня разрывает изнутри дикая, неистовая радость.
– А-ра-о!.. – прозвучал и голос карабахца неуверенно, а потом всё твёрже и громче. – А-ра-о!..
– А-ра-о!..
– А-ра-о!..
Вскоре домик наш гремел и громыхал от наших неистовых, дружных, слаженных криков.
– Сейчас все злые духи и черти вокруг нас сдохнут на месте, – сказал я, смеясь. – Пойте… чуть потише…
Подавшись назад, я упёрся спиной в стену, и мне показались такими мелкими и ничтожными все эти мытарства, споры, мечтания, заботы – ничтожными и какими-то даже надуманными.
Я с улыбкой закрыл глаза и с ошеломляющей ясностью ощутил, что та жизнь, которою мы живём, пройдёт, проходит и на миг показалось даже, что уже прошла.
1988 г.
© Севак Арамазд
Проза
 СТЕПЬ
СТЕПЬ
 ГОРА СОЛНЦА, роман, 2010
ГОРА СОЛНЦА, роман, 2010
 СМЕРТЬ МАТЕРИ
СМЕРТЬ МАТЕРИ